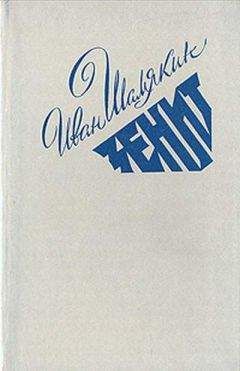Я взял ее левую руку и прижал ее к своей щеке. Мне хотелось плакать, но я боялся слез, понимал: они больно ранят ее сердце.
— Не нужно, Павлик, — как бы догадываясь, что может случиться, попросила она.
Говорить… что-то говорить! О ней, о нас. Но не о ранении. Тогда не будут душить слезы и разговор станет спокойнее.
— Что тебя вынудило, Ванда?..
— А тебя что вынудило проситься ехать с ротой? Тебя же не посылали. Разве не так?
Отбилась знакомой логикой, против которой я и раньше не находил аргументов.
— А что с Виктором?
— Не знаю. Остап Васильевич умер в том же госпитале, где мне отняли руку, — грустно сообщила Ванда.
— Почему не передала нашим, что ты здесь?
— Боялась. Первым пришел бы ты… Так ведь?
— Мы поженимся, Ванда! Какое-то мгновение она молчала.
— Нет, Павлик. Какая я теперь жена! Хомут тебе на шею. Не хочу! Не хочу! — сказала с болью, с отчаянием, горько улыбнулась. — Как писали в старых романах: а счастье было так близко…
На нас наскочила медсестра. Разозленно набросилась на Ванду:
— Жмур! Мне за тебя доктор шею намылил. Вышла на полчаса, а гуляешь полдня. Сейчас же в кровать! Уже кавалера себе нашла! Вот же Евин род! — Будто сама не относилась к этому роду человеческому.
Ванда покорно и, показалось мне, охотно пошла за сестрой. Правда, спросила:
— Помочь тебе?
— Нет, я сам. Я на батарею пойду. — Показалось, что в глазах ее появилась новая грусть, и я успокоил: — На третью.
Незначительную новость, что Лика переведена на третью, не упомянул в беседе.
Старшая сестра была в тот день удивительно покладистая. Чуть ли не обрадовалась, что я могу пойти на батарею.
— Я тебя экипирую как жениха.
Дала китель, новенький, чужой, с лейтенантскими погонами. Точно знала, что мне накануне присвоили это звание. Призадумалась, как быть с брюками — на повязку не лезла штанина. Придумала: дала матросский клеш и матросский ботинок.
— Наряд… как раз для комендантского патруля.
— А ты не гуляй по Крещатику. Задворками иди. Задворки — немецкие огороды, дорога протоптанная.
И я поскакал на костылях по знакомым тропкам.
Батарейцы занимались неожиданным делом — за позицией, у сетки огородика, за кустами звонко распустившегося крыжовника, мастерили длинный стол. Часть его была составлена из полированных столов, видимо позаимствованных в ближайшем доме. Вторую половину батарейные столяры сбивали из досок. И скамьи сбивали. Строгали фуганками.
Работа эта показалась такой гражданской, мирной, что я даже захлебнулся от счастья еще на подходе. И люди, батарейцы, кроме разве сержантов-мужчин, ходили совсем не по-армейски. Особенно девчата. В первый же мирный день демобилизовали себя. Бегали из кухни к столу, перекликались и смеялись, словно перед деревенской свадьбой. «Деды», наоборот, ходили с важностью глав семей и с явной независимостью перед младшими командирами.
Встретили меня радостно, шумно. Девчата. Но обнять позволил себя только Савченко.
— Поздравляю тебя, герой. Знаешь, как Тужников тебя расписал. Молодец! Молодец, что пришел. В такой день! Как рана? А мы, видишь, устраиваем торжественный обед. На всю батарею. Ты как раз успел. И знаешь что выпьем за Победу? Французское шампанское. Мой шустрый старшина нашел в каком-то подвале целых семьдесят бутылок. Дюжину я послал Кузаеву, начальство надо ублажать. Мне еще служить, как медному котелку.
Командира третьей считали человеком гонорливым. Во всяком случае, нас, штабных офицеров, принимал он без внимания: пришел — занимайся своим делом и не мешай мне заниматься своим. Некоторые обижались, даже Колбенко высмеивал «удельного князя» с мужицкой пыхой.
Может, потому мне так приятна была Савченкова доброта — принимал меня действительно как дорогого гостя. Хотелось сказать ему про Ванду — его же подчиненная, но боялся, что он со своим настроением успеет пошутить так, что после моего сообщения о ее руке ему станет неудобно.
Девчата принесли полотнища белой ткани — застелить столы.
Савченко отрезал от каждой скатерти по лоскутку и каждый отдельно, щелкая зажигалкой, поджег.
Удивил меня.
— Зачем?
— Тут, брат, три дня назад была история. Не у нас. Вон на том химическом заводе. Там девчата наши, вывезенные сюда, ждут отсылки домой… приводят в порядок трофеи… Завод же военный. Так набрали они на складах этой белизны, нашили платьев. Невесты! А пришли к ним на танцы курцы наши… Чиркнули спичкой, и платья — как порох. Две девушки обгорели. Хорошо, ребята не растерялись, сорвали с них одежду. Шелк для снарядных пороховых мешков. От искры вспыхивает. Так я теперь проверяю все трофеи… любую одежду, даже шитую. Вася мой мог притянуть что хочешь.
Я слушал комбата, смотрел, как девчата несут из кухни вкусные кушанья на красивых фарфоровых блюдах, а сам искал глазами Лику. Нигде ее не было видно. Встревожился. Выбрав минутку, когда хозяин отвернулся, пошел по позиции, до дальномерного окопа. Меня перехватила связистка Поля Копыток — девчата догадливые:
— Вы ищите Иванистову? Она там, в огородике.
Странно, все готовят стол, а она одна в огороде. Почему? Постарался незаметно от Савченко, от девчат прошмыгнуть через продранную сетку в огородик. И там, за кустами смородины, нашел Лику. Она сидела на низенькой лавочке и… плакала.
Ее слезы больно ударили в сердце; подумал про ее отца: неужели погиб? Перед самой Победой…
Лика почувствовала взгляд, подхватилась. Увидела меня — удивилась и, кажется, обрадовалась.
— Вы? Павел! Ой, простите, товарищ лейтенант! Как ваша нога?
— Вы плачете? В такой день! Что случилось? Кто вас обидел?
По-детски, кулачком, вытерла глаза, испуганно ответила:
— Нет, нет, никто.
— От радости плачут на людях. А вы спрятались за кусты. У вас — беда? Какая? Скажите.
Лика на мгновение задумалась. Ступила ко мне, пристально вглядываясь вспухшими от слез глазами.
— Скажите, Павел, как вы думаете… Теперь, когда войны нет, можно будет поехать… в Финляндию? Позволят?
Как обухом ударила. Оскорбила. Любых слов ожидал, любого признания, обиды, но только не этого. И в такой день она думает, как бы поехать в Финляндию! Разозлился я, грубо спросил:
— Что вам далась та Финляндия?! Сколько они убили наших!
Лицо ее скривилось, как от боли.
— Боже мой! Какие вы недогадливые. Сынок у меня там. Сынок! Два годика ему.
— И муж? — все еще сурово спросил я.
— И муж.
— Офицер?
— Солдат. Был солдатом… Как я испугалась, когда вы убили того…. Подумала: мой мог искать меня…
Отхлынула моя злость. Передо мной стояла мать. Почти год она жила среди нас, а думала о своем ребенке. Вспомнил Зуброва. Все он знал. А о том, что женщина имеет ребенка, не мог узнать. И это при том, что в пулеметной роте служила Эва Пюханен, вместе с Ликой учившаяся в Хельсинки на учительских курсах. Какая верность! И какое умение молчать. Неженское. Или, наоборот, женское?
Я засмеялся почти весело. Над Зубровым. Над Даниловым. И над собой. Над своими, пусть и туманными, снами.
Лику испугал мой смех. Она ожидала ответа: позволят или не позволят?
Подумал про закон о запрещении браков с иностранцами, но успокоил:
— Конечно же вам позволят.
Пришла Ирина, жена Савченко.
— Вот где вы, голубки. А вас ищут. Пойдем выпьем за Победу. Было бы мне можно, напилась бы я…
Ирина полностью демобилизовала себя. Надела широкое красивое платье. Но и под тканью, свисающей свободно, было видно, как она покруглела.
Я смотрел на ее живот, как на великое чудо природы. Ирина была не из стыдливых, хотя и татарского происхождения. И на язык острая. А тут смуглое лицо ее запунцовело.
— Что ты смотришь так на меня? Беременной бабы не видел?
Смутился я. Сказал игриво:
— Позволь тебя поцеловать.
Ирина погрозила пальцем:
— Ну, ну! Знаешь, какой ревнивый мой Савченко!
А мне не губы ее с золотым пушком хотелось поцеловать. Хотелось стать на колени, припасть ухом к ее животу и услышать… Новую жизнь. Человека услышать. Бессмертного.
Раздел последний, который можно считать эпилогом
Я прошел по подземному переходу, сырому и холодному еще. Вышел у Исторического музея. С Красной площади дохнуло весенней теплотой. Ослепило солнце. Такое же ласковое, как в первый день мира. Москва сияла, искрилась от солнца и праздничных транспарантов. Не утратили еще багрянца и золота первомайские лозунги, знамена, к ним добавились славившие Победу — 40-летие Победы.
Москва шумела, гудела. По площадям Дзержинского, Свердлова катились разноцветные волны машин, а по проспекту Маркса, словно вырвавшись из теснины, гудел встречный поток.
Постоял у музея, у Арсенальской башни, хотя до места сбора у входа в Александровский сад осталось несколько шагов. Там толпились люди, группами, небольшими и большими, с венками. Пропускали к могиле Неизвестного солдата по очереди, время каждой дивизии, полка расписано. В толпе ветеранов немало детей, пионеров. Это волновало. Разве только это? Я не спал в поезде всю ночь. Представлял нашу встречу. Виктор Масловский сказал: «Будут все наши». Они с Тужниковым полгода собирали. Идеалист бывший зенитчик и танкист, теперешний дипломат и профессор! «Будут все…» Нет, многих не будет, потому что их нет уже на земле. Но, конечно, будут волнующие встречи, некоторых же не видел сорок лет. Легко сказать — сорок! Повзрослели дети, выросли внуки.