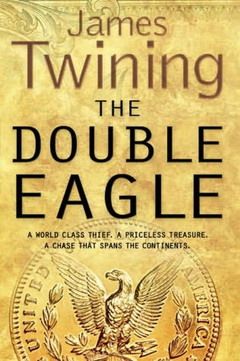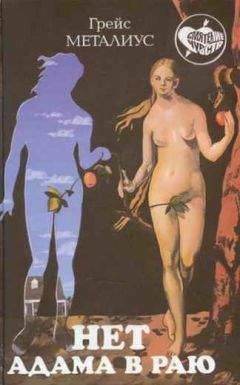В течении десяти минут старлей бился за жизнь бойца. Бесполезно. Дыхание и сердцебиение Самарина не восстановилось. Он был мертв.
— Суки!..
Романов заорал во весь горло, словно вместе с криком он пытался изгнать из себя всё: свою боль, обиду, горе, вдруг заполнившие его до отказа, по самый колпачок и уже выплескивавшиеся наружу потоками слез. Только он услышал свой надорванный голос. Только замкнутое пространство пещеры ответило ему глухим безжизненным эхом. По щекам текли слезы. Самостоятельные. Независимые. Им ненужно было просить разрешение у хозяина. Им необязательно было указывать путь на лице, по которому течь. Им не было надобности в том, чтобы кто-то указывал норму количества соли выдавливаемой вместе с влагой из желёз.
— Суки!.. Суки!.. Чтоб вы все сдохли!..
Горло от крика уже саднило, он хрипел, с губ летели брызги.
— Ну? И где она, твоя надежда? Где она? Чем она нам помогла? Чем она помогла тебе? Она тварь, Жека! Она продажная тварь… Она проститутка. Я всю жизнь носил эту самую твою надежду на руках, растил ее, берег, поливал, как, девка на балконе цветочек какой-то сраный… И что нам это дало? Что же ты молчишь то теперь? Ты же был такой говорливый и умный. И где теперь твои слова? А теперь ты просто меня бросил и сбежал, типа ты, сука, не причем, а я должен один остаться и отвечать за все вот это говно. Да? Так? Суки!.. Женя! Вернись, падла! Ты же стал моей совестью, моей моралью, скотина… вернись! Блядь! Что же мне-то теперь делать? Что?..
Он уже не мог орать. Он просто хрипел и выплевывал слова, как отхаркивают изо рта сгустки слюны, крови и пыли, забившими горло. Он забыл о том, что у него сломана рука, его уже не беспокоило это. Сейчас он вообще не мог думать ни о чем. Мысли куда-то улетели вместе с исторгнутыми из организма словами. Даже слезы высохли сами, оставив о себе лишь воспоминание и мешки под глазами. Его тело сотрясала мелкая дрожь. Он упал лицом Самарину на грудь и прошептал непослушными, опухшими, резиновыми губами:
— Что же мне теперь делать?..
Через полчаса он пошевелился, словно каменная статуя начала оживать, словно вздрогнул базальтовый валун и стал разворачиваться, выпуская отростки. В холодных глазах бесконечная опустошенность. Шатаясь и прижимая раненую руку к боку, Романов, спотыкаясь, направился в сторону обрушившегося выхода из пещеры. Из его груди вырывался сухой хрип. Старший лейтенант вцепился здоровой левой рукой в торчащий из завала камень и потащил его на себя, пока тот с грохотом не свалился под ноги. Он тут же схватился за следующий, затем еще один и еще, и еще.
Он выковыривал и скидывал камни один за другим, пока не образовалась ступенька, приступок, на который можно было забраться и встать на колени. С исступлением, достойным бульдозера, копал и копал, рыча, скрипя зубами, хрипя. Лицо превратилось в черную неподвижную маску свирепости с оскаленными зубами и разбитыми в кровь губами.
Спустя час он все так же копал, то и дело, вылезая для того, чтобы выволочь очередной обломок скалы, выталкивая мелкие камни и песок подошвами изодранных в клочья берц. Потом еще час. Он не останавливался, не пил, не отдыхал, только копал и копал, раздирая ногти, совершенно забыв о приставленной к стене саперной лопатке, единственной оставшейся из пятнадцати.
Еще через час, совершенно измотанный, он опустился на созданную им кучу. Все тело трясло от напряжения; пот, словно вода в цементном растворе, связал пыль и песок вперемежку с кровью, покрыв твердеющей коркой кожу; левая рука, исцарапанная о камни, и правая сломанная, болтались, словно ветви плакучей ивы на ветру. Он долгое время дышал тяжело, затем дыхание стало выравниваться. Он закрыл глаза, лег на спину и съехал по куче до земли.
Казалось, он уснул или умер, но, спустя полчаса, он вновь пошевелился, скрипнул зубами и открыл глаза. Романов взял здоровой рукой валявшийся у ног и уже начавший слабеть фонарик, встал и поплелся в угол, где стоял накрытый котел с оставшейся водой. Он долго и жадно пил, встав на колени, проливая воду на себя, словно хотел остудить перегревшийся организм. Затем старлей стал рыться в стопке аккуратно разложенных еще Страховым, оставшихся вещей, откладывая в строну ненужные. Наконец, он нашел второй фонарь, обтер его и засунул в набедренный карман.
Не вставая с колен, Романов проковылял к трупу Самарина. Протянув руку, он погладил труп Евгения по голове.
— Женька-Женька! — прохрипел Виктор. — Я помню. Ты не любишь замкнутое темное пространство. Потерпи, братишка. Я скоро тебя отсюда вытащу. Скоро. Осталось совсем чуть-чуть. Только отдохну немного. Видишь ли, я руку сломал.
Он нервно рассмеялся, сотрясаясь всем телом. По щекам опять побежали слезы.
— Представляешь! Я сломал руку. А она тогда сломала ногу и плакала. Я тогда понял ее состояние, но не до конца. А сейчас… А сейчас я сам попал в точно такую же ситуацию. Это все твой солнцеворот. Понимаешь? Это он мне все объяснил.
Романов на некоторое время замолчал, словно собираясь с новыми силами, вытер, точнее, размазал по грязным щекам слезы и опять погладил бойца по голове.
— Понимаешь? Она была точно так же, как я сейчас, зажата в темной пещере небольшого гарнизона. Словно в камере. А гарнизон и есть темная пещера. Мы, люди, жившие и служившие там, и есть та самая темнота окружавшая ее со всех сторон. Понимаешь? Ты все понимаешь. Она была одна живая среди трупов. Они, то есть мы, были для нее мертвыми. Мы двигались, ели, пили, разговаривали, но были трупами. Потому что мы не жили, а лишь присутствовали в ее заточении, будто ходячие призраки. Даже я. А ей нужны были живые люди. Ей нужны были жизнь, свет, воздух, свобода. Как и мне сейчас. Если бы я тогда все понял сразу, а не домыслил теперь, я бы в доску для нее расшибился. Я бы тогда бросил бы все к чертовой матери, ушел бы со службы и уехал бы с нею. Точнее увез бы ее подальше от этого кошмара. Но… Теперь я сам в таком же положении.
— Да, и ты теперь свободен окончательно от своих родителей, — продолжил Романов после небольшой паузы. — Они теперь не смогут лезть в твою жизнь. Хотя напоследок, они могут тебя похоронить на том кладбище, которое тебе не по вкусу. Зато тебе не придется жениться на этой дочери дипломата, которую ты в глаза не видел. Ты теперь свободен, Женька. Ты свободен.
Он снова рассмеялся, но в этом смехе уже не было истерики. Это был смех человека, который узнал, наконец-то, смысл жизни. Наверное, так смеялся Архимед, когда бежал голым по Сирокузам с криком «Эврика!». А потом, он вдруг резко оборвал смех и стал серьезным. Странно, но смех прочистил горло и его голос больше не был хриплым. Голос окреп. И сам романов тоже теперь казался набравшимся новых сил.
— Я выйду отсюда, братишка. Я поеду к ней, своей жене, упаду в ноги и попрошу прощения. Хочешь, я зайду к твоим родителям? Я знаю, что не хочешь, но придется. Какие ни есть, а они все-таки твои родители и имеют право знать, как ты погиб, где. А я не боюсь посмотреть им в глаза. Я уже ничего не боюсь. Ладно, Женя. Мне пора копать дальше. Ты лежи. Не волнуйся. Я нас откопаю. Отдыхай, моя совесть.
Старлей поковылял к завалу.
И снова пыль, песок, камень в узком лазе. И опять содранные ногти, исцарапанные, разбитые в кровь пальцы. И опять сломанная рука мешает, как рудиментарный отросток, как лишняя деталь в каком-то механизме, приделанная дизайнером для красоты. Она только отвлекала его от работы болью, но он лишь стискивал зубы и рычал. И копал, и копал, и копал.
Спустя два часа, большой черный камень, к которому он лишь слегка прикоснулся, вдруг медленно пополз от него и вывалился наружу. Яркий свет ударил в глаза, словно включили прожектор и направили прямо на него. Свежий холодный воздух плеснул в лицо пьянящим, как показалось Романову в тот момент, запахом снега, запахом открытого пространства, запахом свободы.
Он стал выталкивать наружу мелкий камень и песок, смешанные со снегом, расширяя проход, стараясь работать все быстрее и быстрее, чтобы вырваться, наконец, из тисков узкого лаза. Через минуту он уже вытаскивал свое тело из пещеры. Ослепленный слезами и светом, Романов упал на колени и, хватая здоровой рукой грязный зернистый, перемешанный с песком снег и тер им лицо, царапая кожу, что-то бессвязно бормоча и смеясь.
Он смог. Он прокопал проход в завале. Он выбрался. Он на свободе. Больше ничто не держит его, и он может, наконец-то, добраться живых, а потом к ней. К той единственной, которая тоже не хотела жить среди мертвых замурованная в пещере. Он смог!
Он смеялся заливисто, высвобождая из груди накопившуюся грязь мыслей и чувств, заперших эту самую грудь, связавших ее ремнями и цепями безысходности и боли. И цепи лопнули со звоном смеха, очистив легкие и душу.
Романов оторвал руку от лица. Свет все еще бил по глазам, размазывая очертания всего, на что бы он ни посмотрел. Но постепенно зрение сфокусировалось.