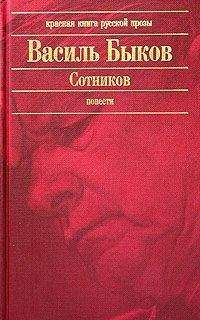— Что там, я спрашиваю?
Я догадался, что произошло что-то страшное, прислушиваюсь, сердце колотится.
— Смотри внимательней.
— Точно, товарищ гвардии капитан. Прямое попадание.
— Да ты получше посмотри.
В потемках натягиваю сапоги, беру куртку, ощупью выбираюсь из блиндажа. Иду туда, на голоса, отыскиваю комбата.
— Что случилось, Семен Власович?
— И не спрашивай! — Он направил луч фонарика в воронку, она еще дымилась. — Лопаты, быстро!
Попробовали копать землю, бросили. Семен Власович снял фуражку, губы его дрожали, он ничего не мог произнести.
За передним краем послышались выстрелы, снаряды прошелестели над головами, один за другим упали где-то за соснами, — может, тоже угодили в землянку с людьми или просто шлепнулись в болото.
Наверное, половина людей на фронте погибает вот так, случайно, вовсе не предполагая об опасности и не успев уловить мгновения своей смерти.
Девушки, девушки!..
В растерянности я не мог даже вспомнить сразу, как их звали. Я только видел перед собой их красивые, приветливые лица. Одно смуглое, другое розоватое, как у ребенка. И в ушах все еще звучали их голоса, которые забыть невозможно.
Меня начинает мучить совесть, как будто, если бы я не ушел из их землянки, с ними ничего бы не случилось.
В блиндаже комбата надрывно звонил телефон.
— К орудиям! — закричал, очнувшись, капитан и, оставив меня, побежал к блиндажу.
Когда я пришел туда, его уже не было. Яркая вспышка осветила поляну. Снаряд зашелестел в немецкую сторону. Второй, третий… Артиллеристы стреляли остервенело. И мне казалось, что снаряды ложились очень точно, в них была неотразимая сила гнева, обиды и боли, которую ничем не успокоить.
Я долго не заходил в блиндаж, хотя меня трясло, было очень холодно. Рядом со мной стоял старшина и посапывал. Наверное, я обязан ему жизнью. Но разве узнаешь, каким он будет, твой новый шаг?
Еще не рассвело, я вышел на дорогу и пешком направился в штаб корпуса. На полпути меня подобрал броневичок офицера связи. Кое-как мне удалось пристроиться на капоте, уцепившись за башенку.
В политотделе мне предложили остаться комсоргом. Я ответил: подумаю. А сам решил: вернусь на танки.
На обратном пути была возможность добраться сразу в полк на бронетранспортере из разведотдела корпуса, но я отказался, решил заехать к артиллеристам.
И вот та самая поляна. Никого. Только, как покинутое лежбище каких-то диковинных зверей, темнели среди зелени окопы, в которых стояли орудия. Батарея снялась. Безмолвие. Отдыхают оглушенные перелески.
Боюсь повернуться в сторону сосен. Может, там и нет никакой воронки? Не приснилось ли мне все это в бреду после блукания по лесам в темноте? Или вообще не было ни учителя-бородача, ни девушек — все это плод моего воображения?
Почти бессознательно иду к соснам. Издали вижу блиндаж командира батареи, за ним — свежеразвороченная глина, как раз то самое страшное место, которое могло быть и моей могилой.
На дне воронки букет полевых цветов. И другой — из каких-то колючих лесных трав, которые не вянут.
Милые вы мои сестренки! До чего же легко в этом мире уйти из жизни. Быть — и исчезнуть без следа…
У меня не хватает сил покинуть это место, я сажусь на скамейку, которая осталась между двумя соснами, — может быть, ее сделал тот самый старшина, который выдворил меня из землянки. Но идти надо. Идти судьбе своей навстречу.
Еле-еле раскачиваются сосны. Их стройные гладкие стволы поранены осколками. Воздух уже прогрелся, синеватый, еще не устоявшийся, колеблется над поляной, струится.
Где он сейчас, мой учитель Робинзон, со своими орудиями? Когда прощались, пытался обнять меня, но постеснялся своей слабости и только взмахнул рукой, резко, почти в отчаянии, будто давал своей батарее сигнал: «Огонь!»
— Держись, Василий! Если вернешься в наши края, загляни в Красно-Пойменскую школу.
— Но она же сгорела.
— А я и не знал.
Наверное, это судьба, что девушки оказались у него в батарее и он заменил им и отца и братьев.
Я все еще не решаюсь уйти с поляны и думаю, что на свете есть что-то большее, чем любовь. Даю себе слово: если останусь жив, обязательно побываю здесь, хотя бы еще раз. Даже если мне придется сюда добираться без ног, исковерканному огнем и металлом.
Майор Нефедов брился, повесив зеркало на сучок сосны. Видимо, бритва тупая, он морщится, но терпит.
— Ты не умеешь бритвы налаживать на ремне? — спрашивает он.
— Что вы! Я и бреюсь пока раз в неделю, безопасной. В прошлом году только начал.
— Надо будет попросить кого-нибудь из танкистов. Они мастера на все руки… Вчера из первого батальона звонили. Просили прислать им комсорга. Я сказал, что ты придешь завтра… Видишь, какого признания ты удостоился — приглашают. Это, брат, понимать надо. Привык уже к своей новой должности?
— Не знаю. Но я не смог отвыкнуть и от той — тянет на танки, товарищ гвардии майор.
— Это я от тебя уже слышал… Да, хотел тебе сказать… Что это ты давно не заглядывал к своим комсомолочкам?
Я отмалчиваюсь.
— Заморочил девушке голову… Скучает она.
Не вздумал ли замполит и меня побрить? Война, фронт, а тут любовь. Когда на уме должен быть долг.
— Ты слышал, что я сказал? Скучает… А ты увидел начальника штаба в машине и укатил назад… Мне кажется, что ты напрасно… На нее положиться можно. Поверь мне. Со стороны видней — она тебя любит. И не дала повода для сомнений.
Нет, хотя он и замполит, а я его в адвокаты не беру. И никому не скажу, что у меня там, на душе.
Невольно начинаю сравнивать Марину с Зоей, которая как завороженная смотрела тогда на меня в землянке. Перед ней я не стыдился бы никакой своей слабости, а перед Мариной я невольно теряюсь. Мне все кажется, что ей не такой любви хочется. Я для нее наивный мальчишка. И так будет всегда. Сменил прежнего комсорга Васю Кувшинова — стал предохранительным щитом. А для меня эта роль не подходит. У меня хватит силы, чтобы переломить себя. Завтра уйду в батальон.
— Значит, я ошибся, — говорит майор. — Я думал, что ты ее тоже любишь.
С другой стороны теперь заходит, но я все равно молчу. Каким бы он душевным человеком ни был, мне не надо посредников: они всё погубят. Если бы Глотюк не носился со своим щитом, у меня никогда бы, наверное, не возникло подозрения, что со мной играют.
— Чем ты сейчас будешь заниматься? — спрашивает замполит.
— Надо написать письмо матери Кувшинова.
— Хорошо.
Я получаю от нее письма чуть ли не каждый день. Как писала своему сыну, так и мне пишет. А когда узнала, что у меня не осталось ни отца, ни матери, стала называть сынком.
«Прошу помнить, Вася, что у тебя есть родной человек, и, что бы с тобой ни случилось, ранят или заболеешь, всегда можешь приехать, как домой».
Я читаю ее письмо, и у меня мороз по коже:
«Милый мой мальчик! Пусть тебя обходят снаряды и мины, не тронут пули… Пока я жива, считай, у тебя есть мать… Пиши».
Я показал ее письмо начальнику штаба. Он прочитал его и сказал:
— А знаешь, Михалев, это, наверное, самая большая удача в твоей комсомольской работе.
— Но какая здесь удача? Получилось само собой.
— В том-то и дело. Само собой получается всегда по-человечески. Ты показывал ее письма танкистам в ротах?
— Пока нет.
— Зря. Ты обязательно дай им почитать. С вечера, если на утро намечается атака.
Я пишу ей тоже каждый день, но мне больно сознавать, что пишет ей не тот, кто должен был писать. И я никогда не смогу заменить его. Слишком большая потеря для нее, невозвратимая.
Я закончил письмо и зашел в землянку к замполиту. Он стоял передо мной какой-то преображенный. И я не сразу понял, что у него на старых погонах появилась вторая большая звезда.
— Поздравляю вас, товарищ гвардии подполковник!
— А между прочим, я уже неделю ношу вторую звезду. Мало интересуетесь начальством! — шутит он.
Мне кажется, теперь он не только не изображает из себя начальство, но стал еще проще. В простоте ведь тоже свое обаяние, и его стали уважать больше прежнего.
Глотюк совсем иной. Он считает, что начальника штаба должны побаиваться, — всех ругает за что надо и не надо, хотя и беззлобно.
— Глотюк есть Глотюк, — сказал как-то Нефедов. — Он хорошо знает, что — нельзя, но не знает, что — можно.
Мне сказали, что меня долго разыскивал капитан Климов, хотел проститься: его отправили командовать ротой регулировщиков.
Лежу под кустом, смотрю на ночное небо. Сколько звезд в вышине! Долго смотрю. Уже начинает кружиться голова, и кажется, что весь Млечный Путь поворачивается над лесами, как лопасти огромной ветряной мельницы.