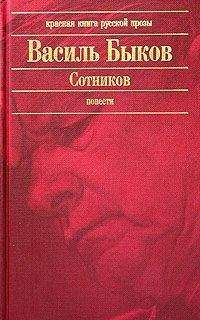Ручьи с шумом катились в овраги. Бурно таял снег. Шел дождь. Сосны почернели, стояли утомленные, будто их всю зиму изматывали бураны.
В соснах гремело. Тяжелые танки ИС, как медведи после спячки, вылезали из своих капониров и вытягивались в колонну. Когда они разворачивались на месте, земля содрогалась.
Я стоял немного опьяненный и уже не мыслил себе жизни без всего этого. Мне надо было обязательно поговорить с командиром полка гвардии подполковником Огарковым, но я не решался к нему подойти: он отдавал какие-то распоряжения комбатам перед маршем. Заметив меня, сделал сигнал: одну, мол, минуточку, сейчас закончим.
У дороги рядом с воронкой мотался на верхушке березы зеленовато-серый кусок грязного сукна — рукав от фрицевского мундира. Посматривая на него, за кустом стоял какой-то танкист и мочился в немецкую каску, вытаявшую из-под снега.
Издали я увидел свою «старушку», на башне которой в ромбике цифра «7». Оказывается, моя машина все еще цела! А я считал, что она давно сгорела. Про нее я кричал в бреду на госпитальной койке, сколько раз она мое снилась по ночам, и всегда какая-то одухотворенная, будто она не из металла. Наверное, нам с ней была уготована одна судьба, и только чудом мой пепел не смешался с окалиной ее брони. Могли вместе попасть на Урал — на переплавку. На башне прибавилось звездочек: уже не две, а четыре.
— Все свободны! — сказал командир полка. Подошел ко мне, протянул руку: — Здравствуй, Михалев! Из госпиталя прибыл? Очень хорошо. Хотя, честно говоря, хорошего мало. У нас таких, как ты, безлошадников, целая погорелая команда. Куй, не накуешься для вас танков… Ну, — хлопнул он меня ладонью но плечу, — как самочувствие?
Я не сказал ему о самом главном. Не знаю, с чего начать. Меня ведь направили в другой танковый корпус, а я прибыл в свой. Так делали многие танкисты. Но начальник штаба майор Глотюк не принял у меня документы.
— Рад бы, Михалев, посадить тебя на боевую машину, — говорит Огарков, — но пока не могу. А потом видно будет.
Он интересуется моим здоровьем, встречал ли я кого-нибудь из своих однополчан в госпитале, потом спрашивает:
— Другие вопросы у тебя ко мне есть?
— Просьба есть, товарищ гвардии подполковник.
— Слушаю.
Я говорю ему, как еще в госпитале решил любыми правдами и неправдами попасть снова в свой родной полк. И вот явился, но с предписанием в другую часть.
— Мальчишка! — нахмурил брови подполковник. — Там такие же танки, как и у нас. И тоже хлебом кормят… А главное — порядок есть порядок. Если бы не знал тебя прежде, я бы, Михалев, разговаривать с тобой не стал… Иди к начальнику штаба и скажи, что я разрешил взять документы. Пусть он сообщит, куда надо, чтобы не считали пропавшим без вести или дезертиром.
— Спасибо!
— Не за что! — усмехнулся он. В душе он все же гордился, что его танкисты после ранения старались вернуться в свой полк. Не любили бы командира полка — не тянуло бы их сюда.
Подполковник сел в «виллис», подозвал меня:
— Слушай-ка, Михалев… На днях мы похоронили своего комсорга. Не мог бы ты его заменить? Временно.
Я растерялся.
— Надо поработать, — говорит командир полка. — Зайди к замполиту гвардии майору Нефедову, скажи, что я прислал.
— Слушаюсь.
Он приказал водителю выезжать в голову колонны. А я так и остался на обочине дороги. Окончательно растерянный. Я ведь мечтал снова сесть в танковую башню.
Отдельный танкосамоходный полк приравнивался к бригаде. Замполит майор Нефедов, молодой, почти моего возраста, с огненной шевелюрой и розовыми губами, встретил меня недружелюбно. Я ему сразу сообщил, что соглашаюсь поработать комсоргом только потому, что сейчас меня не могут посадить на танк.
— Что это за работа из-под палки! Лучше уж и не браться. Надо по призванию.
— А разве война — тоже по призванию?
— Война, конечно, нет. А вот военно-политическое училище я сам избрал для себя.
— Неужели бы вы отказались, если бы вас в танковое послали?
— В танковое не отказался бы! — Он улыбнулся и вроде примирился.
Может, он и взял меня комсоргом только потому, что я с ним так откровенно поговорил.
К нам в полк майор Нефедов прибыл из гвардейской танковой бригады, где он был помощником начальника политотдела по комсомолу. Говорили, будто командир полка сначала возражал, хотел взять к себе кого-то посолиднее, но его убедили — парень хороший, сибиряк. А может, такого конфликта и вовсе не было, потому что подполковник Огарков и «золотой замполит», как все звали майора, жили и работали в согласии.
Волосы у него были не рыжие, а огненные. Голова светилась, как факел. Лицо продолговатое, в веснушках, острый нос, а глаза цвета неустоявшейся осени — тоже с золотинкой. Девушкам он нравился. Особенный, непохожий на других. Но он рано выбился в руководство, стеснялся той простоты, с которой обращались друг с другом танкисты ротного звена. Он всегда был занят важным делом, всегда думал о том, как бы в части не случилось ЧП. Да и хотелось, видимо, показать, что он хоть и молодой, но не хуже других, выдвиженец комсомола.
— Так чем же мне заниматься, товарищ гвардии майор? — спросил я у него.
— Чем? — улыбнулся он. — Присматривайся пока. Лучше ничего не сделать, чем испортить. Не все ведь переделать потом можно.
«Присматривайся»! К кому и где? Каждый в полку знает свое место. А я какой-то вольноопределяющийся.
Но тут я вспомнил, что у меня же есть своя родная рота. Туда и направлюсь.
Густой весенний ветер раскачивает сосны. Кусок немецкого мундира издали походит на ворону, опрокинутую на суку вниз головой. Неуютно. Танки разворотили не только дорогу, но и все поляны вокруг. Пригреет солнце, и здесь ни пройти ни проехать.
Но в одном месте поляна не тронута. На ней, у края овражка, примостилась семейка молодых сосен и рядом с ними — невысокий красный обелиск. Чья же это могила? Может, похоронили кого-то из моих друзей танкистов?
Подхожу — могила совсем свежая. Кажется, земля еще не остыла. В обелиск вделана фотография. Незнакомый мальчишка в комбинезоне, смеется. И ни тени тревоги на лице. Гвоздем выжжено:
«Гвардии младший лейтенант Кувшинов Василий Степанович».
Предшественник мой, комсорг полка. Я сломал несколько сосновых веток, положил их рядом с обелиском.
У штабной машины стоял майор Глотюк и посвистывал — поджидал меня.
— Где это вы изволите шататься, товарищ гвардии старший лейтенант? Давайте документы.
Говорил он громовым голосом — привычка распоряжаться. И лицо у него волевое — крупный нос и широкий рот. А вот усы жиденькие, вразлет, как крылья у стрекозы.
Я отдаю ему свое предписание и ожидаю, что он скажет. Но он ничего не говорит, глядит куда-то в сторону. Потом стал расхаживать у машины, а писаря в это время грузят в кузов какие-то ящики. Ходит он степенно, ставя ногу на всю ступню, как на параде. У него длинные ноги и короткое туловище. Поэтому в шинели он выглядит щеголем.
Он о чем-то думает. На лбу складками сбежались морщины.
— Вы завтракали, Михалев? Идите на кухню, перехватите чего-нибудь, успеете.
Когда я вернулся, он подвел меня к трофейной машине — грузовику, у которого был очень широкий и высокий крытый кузов лягушачьей окраски — зеленый, с разводами.
— Вот на этой колымаге вы и поедете. В кабине, за старшего. Бывший личный салон немецкого оберста! Отвечаешь за нее головой. — И он почти дружески улыбнулся.
— Слушаюсь!
Чертова колымага! Огромная, выпирает из колонны, и на нее набрасываются, как коршуны, «мессеры». Из кабины неба не видно, я стою на подножке и наблюдаю. «Мессеры» отбомбились и улетели, шофер жмет на всю железку, под уклон машина катится хорошо, спускается, как железнодорожный вагон, и сильно дребезжит, кажется — вот-вот развалится. Но на подъеме фрицевский мотор не тянет, колымагу хоть подталкивай, мотор визжит, как сверло.
Я соскакиваю с подножки и иду пешком. Спрашиваю у шофера.
— Что там у тебя в кузове? Может, снаряды?
— Пустой. Кроме двух коек, ничего нет. Вчера она легче шла. А сегодня я ее первосортным бензином заправил. А для нее достаточно было и керосина.
Шофер — молодой солдат. Был тоже на боевой машине, но сгорела, посадили за баранку. Водит он лихо, с ухваткой танкиста, под гору пускает отчаянно, мне приходится сдерживать его.
Откуда-то сверху наискосок обрушивается на нас вой и грохот. Тра-тра! — будто алмазом режет стекло «мессершмитт» или «фокке-вульф», кто их тут разберет. И мы оказались как раз на перевале. Машина покатилась вниз, я отстал, бегу следом, но догнать не могу. Вдруг вижу: колымага уже в кювете, какой-то неведомой силой ее вновь выносит на дорогу, она подпрыгивает и становится на все четыре колеса. И теперь не один, а два самолета идут нам навстречу на бреющем, бьют из пулеметов — мимо! Я падаю в канаву, там еще снег, под ним вода. Локти и коленки промокли.