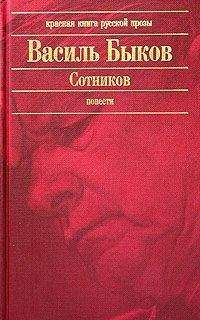— Родители и сейчас там?
— Да, мама оставалась там. Боюсь, что она погибла.
Куртка моя ее мало согревала, Марина опять поеживается.
— Хотите, я костер разведу?
— Делайте что угодно, только я, видимо, все равно не согреюсь.
Костер пришлось разводить прямо на полу. Дымновато, но греет. Дым горький, режет глаза, у Марины катятся слезы, она вытирает их платком. Какие-то запахи, сирени или ландышей, распространились по «апартаментам». Но вот костерок разгорелся, дыму стало меньше.
Марина разглаживала ладонью свою мокрую гимнастерку, от которой валил пар.
— А где же ваша шинель и шапка? Не утеряли?
— Нет, не беспокойтесь.
— Вы санинструктор или радистка?
— Радистка.
— Из какой части?
Она назвала номер полевой почты нашего полка.
«Наверное, моя комсомолка?» Я все собирался зайти к радисткам побеседовать, но так и не зашел.
— Выходит, мы с вами однополчане.
Она удивилась:
— Почему же я раньше вас не видела?
— Я недавно из госпиталя прибыл.
Сначала костер горел хорошо, но теперь, когда я подбросил в него сырых сучьев, почти совсем потух — они только шипели и дымили и не давали совсем тепла.
— Вам не интересно знать, где я была?
— Зачем мне это?
— Конечно… Но могли бы вы так? — И она замолчала.
— Как?
— Пригласить к себе девушку, настоять, чтобы она, дура, выпила… Могли бы?
— Не знаю.
Видимо, я смутился.
— Хотя вы и старший лейтенант, но еще мальчик. Счастливой будет та, которой вы достанетесь. Если, конечно, встретите настоящую подругу.
— Вы думаете, что нам придется выбирать себе подруг?
— Кто знает. Может, и придется. — Она опять улыбнулась. — А некоторые и сейчас не теряются. Предлагают руку и сердце. И чуть ли не трофейный салон в придачу!
Теперь стало ясно, у кого была эта девушка.
— Посидите немного, я сейчас вернусь.
Она что-то крикнула мне вслед, но я не расслышал ее слов, сквозь дождь пошел напрямик к соснам, под которыми стояла колымага. Издали заметил, что в кузове горит свет, в щель пробивается бледная полоска.
Я постучал в дверь.
— Ну что, вернулась? Думала, я, как мальчишка, побегу за тобой. Заходи.
— Это я, товарищ гвардии майор. Михалев.
Поднимаюсь по шаткой лесенке, открываю дверь. На столе стоит трофейная плошка. Она не коптит и ярко светит. Не то что наша «катюша», которая того и гляди взорвется, хотя мы и посыпаем фитиль солью.
Майор Глотюк сидит на кровати, китель расстегнут, лицо бронзовое. Он смотрит на меня удивленно и растерянно. Складки на его лбу сбежались в гармошку.
На белой скатерти тарелка с консервами, два стакана. На блюдце гора окурков. Он не пьян. Наверное, он вообще не пьянеет.
— Я вас не вызывал, Михалев. Но раз пришли, присаживайтесь. Может, выпить хотите? У меня сегодня день рождения.
— Я знаю. Но…
Он перебил меня:
— Слишком много знаешь, приятель! Как бы рано не состарился. Слыхал про такую пословицу: «Каждый сверчок знай свой шесток»? Или, может, тебе давно клизму не ставили?
— Я не затем пришел, чтобы вы меня отчитывали. А о том, что случилось, вы можете пожалеть.
— Кру-гом!
Он думал, что я повернусь. Надеялся на волшебную силу команды. В другом бы случае я, конечно, повернулся и ушел. Но сейчас… Это тоже обернулось бы против него.
— Хорошо. Садись, Михалев!
— Я должен торопиться. Где ее шинель и шапка?
— Вон, рядом с вами на вешалке. Но не будьте чудаком! Произошло все глупо. Я думал… К тому же выпили немного.
— Вам надо извиниться перед ней.
— Вы так считаете?
— Да.
— Хорошо, я извинюсь. Но пусть придет сама сюда. Я ей хочу что-то сказать.
— Не придет она.
Он посидел молча, покусывая губы.
— Присядь, Михалев. Присядь. Я же с тобой как мужчина с мужчиной. Может, мне тоже пойти?
— Лучше не надо. Спокойной ночи.
Пока я ходил, костер почти совсем потух. Марина склонилась над ним и грела руки над последними мигающими углями.
— Вот ваша шинель и шапка.
— Благодарю вас.
«Катюша» сильно чадила. Кончался бензин. Я потушил ее. Фитиль долго еще искрился, пока наконец не стал совсем черным.
По-прежнему было холодно и сыро, ветер дул в окно и двери.
— Я думала, вы не вернетесь. Боялась, что он…
Она в темноте где-то рядом. Я не вижу ее, слышу только дыхание.
— Я пошла бы к себе, но он обязательно придет туда объясняться.
— Видимо, придет… Залезайте-ка на нары и укрывайтесь, а я займусь костром.
— Я помогу вам.
Она посидела немного на чурбаке, который закатил сюда Дима, посмотрела, как я раздуваю почти совсем погасшие угли, и сказала:
— Не могу. Глаза слипаются.
Полезла на нары.
Огонек заплясал, раздвинул темноту но углам и остановился под самой точкой сводчатого потолка. Марина лежала, придвинувшись к стенке. Она быстро уснула.
Потеплело, и мне тоже нестерпимо захотелось спать. Я положил голову на колени и задремал прямо у костра.
Сменился с поста Дима. Зашел, снял мокрую плащ-палатку, поставил в угол автомат, посмотрел на нары.
— Я вам не помешал, товарищ гвардии старший лейтенант?
— Нет. Она у нас случайно. Заблудилась… Ложись и ты.
Оп уклончиво ответил:
— Погреюсь немного. Прокурили вы тут все дымом. — Уселся тоже на чурбаке, рядом со мной, свернул папироску, прикурил от уголька.
— Если я не ошибаюсь, это Марина? Ленинградка?.. Узнает Глотюк… Он ее охраняет, как клад.
Я ничего не ответил, и он не стал об этом распространяться. Вскоре Дима разомлел у костра, стал клевать носом. Молча полез на нары.
За окном чуть сереет. Надо будить Марину. Я потряс ее за плечо. Она вскочила, смотрит на меня не своими глазищами, машинально одергивает юбку на коленях.
— Что такое?
— Доброе утро. Нам пора.
Она соскользнула с нар, быстро стала застегивать шинель. Мне показалось, что она сотворит сейчас какую-нибудь глупость. Видимо, в таком состоянии люди бросаются под поезд, перерезают себе вены.
— Успокойтесь. Ничего плохого не случилось.
— Да. Но как я теперь буду возвращаться к себе?
— Обычно. Сейчас я вас провожу.
— Не надо! Не надо!
Уже от порога она вернулась:
— Извините, ради бога, и не думайте, что я такая… Я даже не узнала, кто вы.
— Извиняю!
Иногда мне кажется, что бывший комсорг Вася Кувшинов просто куда-то отлучился, вернется и скажет: ты свободен.
Оказывается, до сих пор не отправили похоронную его родным. Не подписал еще Глотюк. Я напомнил ему. Он ответил:
— Сам же видишь, все отдыхают, а штаб работает. Некогда.
— А начнутся бои, будет легче?
— Какие там бои! Дороги развезло так, что ни пройти ни проехать. Теперь жди, пока подсохнет.
Мне кажется, что Глотюк может забыть: сколько у него других дел! И я прошу:
— Постарайтесь все же подписать, товарищ гвардии майор.
— Постараюсь! — зло отвечает Глотюк. — Хотя с таким сообщением торопиться… Не Героя парню дали.
— Но мать пишет ему, как живому, а он давно в земле лежит!
Глотюк вздохнул и вышел из машины.
Чернов возится с какими-то гайками, модернизирует у колымаги мотор, чтобы лучше тянул.
— Дима, а ты знаешь, как погиб комсорг?
— Да так, как все погибают. Обычно. Хотя, пожалуй, и не совсем так. Его послали к окруженной роте. Или он сам напросился. В деревне наши танки были зажаты «фердинандами». Всю ночь шел бой. Танки, конечно, вышли. А Кувшинова нашли раненого, истек кровью. Не везет нам с комсоргами. Только за последний год трое сменилось. Вы четвертый. Младший лейтенант Кувшинов тоже из строевых, прежде взводом разведки в механизированном полку командовал. И ничего. А тут… «Не узнаешь, что кому на роду написано», — говорила бывало моя мать. Я лично хотел бы если уж умереть, то в танке.
Дожди и туман. Снег тает, грязи все больше. Над развалинами замка дымки, солдаты обогреваются у костров.
— Михалев!
Опять: «Михалев». Комсорг — из всех рядовых рядовой. Правда, оказалось, на этот раз вызывали по делу.
Кому-то пришла в голову мысль: отметить юбилей полка. Он был сформирован весной сорок первого, но технику получил только во время войны. Один из первых танкосамоходных полков прорыва. Где нужно было проломить брешь в обороне противника, бросали наш полк. Если требовалось прикрыть свои войска от немецких танков, опять нас посылали. Нам доверяли, и мы привыкли надеяться только на себя — стояли насмерть.
Личный состав полка сменился несколько раз. Было пять командиров полка и четыре комиссара, только начальник штаба — Глотюк — каким-то чудом сохранился.
Техника у нас самая грозная. Были КВ, теперь ИС, бьют прямой наводкой до двух километров. Приятно сознавать, что там, где мы появляемся, не жди тишины. Немцы обычно тут же перебрасывают на этот участок фронта свои «тигры» и «фердинанды», тяжелую противотанковую артиллерию.