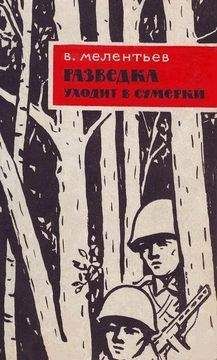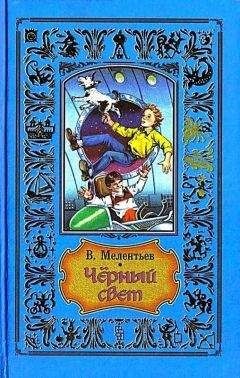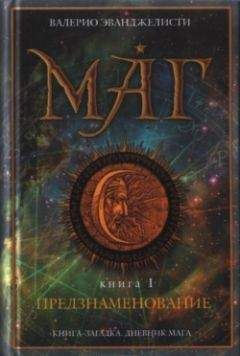Ознакомительная версия.
И Сашка уже решительней возразил: «Умирают — да, но не сдаются. И не поворачивают назад».
Он сказал это мысленно, сказал горячо, и удивительно — именно эти слова постепенно изгнали страх, возвратили Сашке внутреннее равновесие. Теперь он снова видел окружающее, обостренным слухом слышал слитный, неясный шумок и понимал, что это идут немцы, чтобы встретить его, Александра Сиренко, смертью. Он не знал этих немцев, но, злясь на свою мгновенную трусость, на себя, он уже ненавидел их тяжелой ненавистью. И чтобы дать ей выход, он мысленно твердил: «Да, комсомолец, да, доброволец. А комсомольцы-добровольцы назад не поворачивают. И если нужно — умирают, но не сдаются».
И те слова, которые он в обычное время не любил произносить вслух — так они были высоки, — теперь, перед последними шагами навстречу смерти, были ему как раз впору: он дорос до них. Они стали его словами и его сущностью.
Он не успел оформить все это в четкие понятия, потому что услышал шепот сержанта. Стоя слева от Дробота, Сашка повернулся к нему боком и увидел далеко вправо, в той самой роще, из которой вылетела сорока, еле заметную красную точку. Она качнулась и исчезла. Сиренко сжал руку Дробота и шепотом доложил об этой точке.
— Точно видел? — серьезно спросил сержант.
— Точно. Показалась и исчезла.
Дробот задумался, что-то прикидывая в уме, поднял голову и долго смотрел на последнюю, цвета жидкого пива, полоску вечерней зари.
— Рановато, но…
— Что «но»? — с задиристой требовательностью спросил Сашка.
Теперь, когда он победил свой первый страх перед немцами, сержант тоже был ему не страшен. Он как бы перестал быть командиром. Он был теперь такой же, как Сашка. Может быть, даже чуть хуже — ведь Сашка подавил страх и не боялся врага, а сделал ли это Дробот — еще не известно.
Эта задиристость — возбужденная и не очень оправданная — не удивила Дробота. Он знал, что так бывает часто: вначале страх, потом бесшабашность, задиристость. А настоящее солдатское мужество, военная мудрость придут позже. И он не подал виду, что понял Сашку. Он доверительно и даже с нотками покорности в приглушенном голосе объяснил:
— На таком расстоянии папироса не видна. Выходит, фонарик. И раз красный — значит, сигнальный. Стоит солдат-маяк, его выставили засветло, и встречает свое подразделение, чтобы оно не сбилось с пути: там у них минные поля. Что это за подразделение? То самое, которое должно стать в засаду справа. Почему рановато? А потому, что в прошлый раз они чуть не опоздали — наши подошли уже к проволоке. Теперь их начальник исправляет ошибку и высылает засаду загодя. Кроме того, их начальник считает, что наш начальник, обжегшись первый раз, теперь изменит время начала поиска, вот и выдвигает свою засаду пораньше, ага…
Сашка слушал ровный сержантский говорок и, по мере того как перед ним возникала, а потом прояснялась картина происходящего на той стороне, которую видел Дробот, и видел так ясно, что мог объяснить не только ее замысел, но даже детали, — все больше удивлялся.
Все было правильно, все логично и законченно. Сашка видел и немецкого начальника, и солдата в пятнистой плащ-накидке, который сидел, должно быть, в кустах и ждал, когда появится его подразделение. Ждал и, наверное, трусил. А когда вдали послышался слитный неясный шумок — совсем такой, какой слышал сейчас Сашка, — наверное, испугался так же, как и Сашка, и, не прикрыв второпях плащ-палаткой фонарик, поспешил просигналить. А командир того, немецкого, подразделения, должно быть, заметил этот непорядок и теперь, наверное, шипит на солдата, а тот, и так напуганный предстоящим боем, трусит еще больше.
И вдруг пропали бесшабашность и задиристость. Осталось удивленное восхищение сержантом, признательность и веселая насмешливость по отношению не только к тому перепуганному фрицу, а вообще к немцам. И Сашка счастливо улыбнулся.
— Верно, — выдохнул он, доверительно наклонясь к сержанту, — верно.
Дробот уловил смену Сашкиного настроения, выпрямился и жестко сказал:
— Верно-то верно, товарищ Сиренко, а вот на нашем направлении тишина. Это меня волнует.
— В штаны наложили, должно быть, вот и молчат, — усмехнулся Сашка.
— Нет, дорогой мой повар. Они не наложат. Они вояки справные, ага. Это они нас ловят. Персонально нас с тобой. И нам теперь нужно носом водить вдвое быстрее. А то не вернемся.
Сашка еще не понимал — шутит сержант или говорит серьезно, пугает или предупреждает.
Но Дробот не дал ему времени на раздумье. Он подошел к пулеметчикам, что стояли во врезной ячейке на открытой, запасной позиции, и шепнул:
— Ну, мы пошли.
Пожилой небритый пулеметчик торопливо ответил:
— С богом.
Сашка не понимал, что происходит, — он все еще разжевывал сержантские слова, — но Дробот подтолкнул его и, легко выпрыгнув за бруствер, коротко бросил:
— Пошли.
Подбежавший наблюдатель и сержант из пехоты помогли Сашке, и он, подталкиваемый четырьмя заботливыми руками, тяжело плюхнулся на мокрый бруствер, ткнулся лицом в жесткую траву и почти сейчас же услышал, что на немецкой стороне заработали пулеметы.
Все в нем обмерло и закостенело. Двинуться с места он не мог.
* * *
Лейтенант Андрианов смотрел в ночную темноту и кончиком языка перекладывал потухшую цигарку из одного уголка рта в другой. Это бесцельное перекладывание успокаивало его — курить он не мог, а терпкая горечь махорки, пресный вкус газетной бумаги были привычны. Лейтенанту нужно было успокоиться.
План поиска ему нравился. И все-таки смущало то, что о нем знали многие. Андрианов был убежден, что истинный план, замысел любого боя должен был знать только один командир. Тогда он будет сохранен в полной тайне.
Что получалось сейчас?
Петровский командовал правой группой обеспечения и знал, что обеспечивать ему, в сущности, нечего — захватывающая группа во главе с лейтенантом ничего захватывать не должна. Пленного должен был взять Дробот. Капитан Мокряков, который обеспечивал поддержку пехоты и артиллерии, тоже исходил из этого плана и потому нацеливал артиллеристов на обманный объект поиска — тот самый, который уже никто никогда не будет атаковать. И сам он, двигаясь с группой захвата, которая, в сущности, превращалась в главную группу отвлечения, тоже мог надеяться только на Дробота. Сумеют ли люди понять, что они рискуют собой не для Дробота, а для общего дела? Всякий план хорош на бумаге, а когда начинается бой — многое меняется. Уловят люди эти изменения? Сумеют сделать из них выводы?
Андрианов все перекатывал и перекатывал погасший окурок и не мог ответить ни на один вопрос.
Морозило. Воздух очищался и позванивал. Далеко влево взлетела первая яркая ракета. Андрианов долго следил за ее полетом и вдруг понял, что думает он о Дроботе. Да, у него ордена. Да, он и в самом деле опытный разведчик — не только на словах: лейтенант наблюдал за его действиями на переднем крае. Да, он комсомолец и, кроме того, — доброволец. Все верно. Все правильно. И все-таки… Все-таки лейтенант еще не знал Дробота. И сейчас, перед решительными действиями, ему уже не нравилось, что сержант взял на себя самое главное, самое ответственное — захват «языка». Он — человек новый, неизвестный, а получалось так, что именно он своими действиями отвечал за весь взвод. Тот взвод, который Дроботу был еще ничем, просто очередным местом службы, а для Андрианова — делом его чести, его жизни, его семьей.
Справа мигнула красная точка и скрылась. Потом донесся легкий шумок и смолк. Лейтенант насторожился и вдруг почувствовал, что рядом с ним кто-то стоит. Он резко обернулся и узнал Прокофьева. Разведчик наклонился и шепнул:
— Рановато они подбираются… Неужели опять заметили?
Лейтенант не мог объяснить ему, что радуется тому, что противник заметил их, и тому, что они действуют точно так же, как и в прошлый раз. Ни Прокофьев, ни другие разведчики об этом знать не должны. Поэтому Андрианов нахмурился и хотел сразу же отослать Прокофьева в землянку, но тот опередил командира.
— Все, как в прошлый раз… — озабоченно вздохнул и подкинул: — А новеньких разведчиков в самое легкое место пустили… Как бы оно самым трудным не оказалось. Может, мне там приглядеть, товарищ лейтенант?
Прокофьев нанес удар по самому больному месту, и лейтенант, несмотря на явную жертвенность разведчика, вскипел:
— Я приказал не выходить из землянок. Марш на место!
Прокофьев, покорно наклонив голову, скрылся в темноте. Последние дни перед поиском он жил легко, свято веря в свою исключительность и неуязвимость. Но здесь, в напряженной темноте передовой, как и раньше, он опять раздвоился. Былой веры в свою удачу не осталось: был страх. Прокофьев понимал, что идет в бой вместе со взводом и, значит, подвергается той же опасности, что и все. Эта общая опасность заставляла его думать о взводе, о его делах, и оп искренне высказал лейтенанту свои сомнения.
Ознакомительная версия.