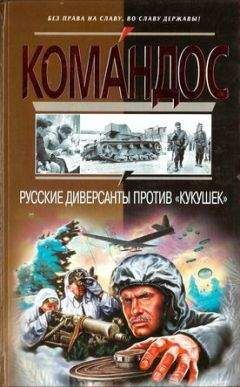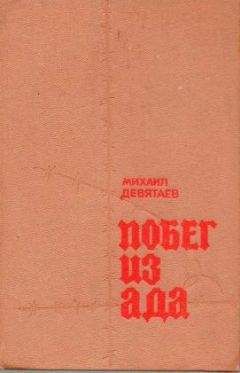— Ври, да не завирайся! Так вот мы тебе и поверили…
— Как это — прихлопнули? Не муха ведь чай какая, а отборные войска у них там, под Сталинградом-то.
— А вот так и прихлопнули! Нет больше, мил друг, ударных немецких войск под Сталинградом. Были — да все вышли. Немцы трубят, что дрались до последнего солдата, все до одного-де полегли и оружия-де не сложили, да только это чистая брехня. Окружили их там наши, больше половины перемолотили, а остальные сами в плен посдавались. Даже сам Паулюс, что командовал теми войсками, и тот со всем своим штабом сдался. Все это нам достоверно известно. Головой за все ручаюсь! Неспроста по всей Германии траур объявлен, да вот и у нас, в лагере за проволокой, уже траурные флаги повысовывали. Погонят на работу — сами увидите. Вот вам моя параша! А теперь дайте хоть затянуться, в самом деле… Не задаром же старался! Да и неужто не заслужил?
— Вот оно что!.. — встрепенувшись, приподнимается с лежанки совершенно обессилевший и словно просвечивающий Осокин. — Неужто покончили с гадами под Сталинградом? Да тебе, знаю, верить можно. Зря трепаться не будешь. Выходит, правда! Вот теперь и понятно, почему они ночью-то взбесились: на нас, пленных, свое поражение вымещали. Вот это новость так новость! Целебней всякого лекарства, право!.. Да за такую и пострадать и стерпеть что угодно можно! Ведь это же — залог и начало нашей будущей победы! Вот это что такое! Настоящим праздником ты нам, Василий, сегодня день-то сделал! Мужики, да дайте же ему кто-нибудь затянуться! Пусть хлебнет малость. А, хотя ладно! Козьма, отсыпь ему за мой счет на закурку. Вечером хлебом рассчитаюсь.
— Ну, нет, так не пойдет! За твою пайку, Андрей, я раскуриваться не собираюсь. За кого это ты меня принимаешь? Ведь сам еле жив, чтобы хлебом швыряться. Обидно даже слышать от тебя такое, а еще другом почитаешься.
— Да за такую парашу можно бы тебе, Козьма, сегодня и без мены обойтись и на закурку выделить, — предлагает кто-то из присутствующих. — Не обеднеешь, чать.
— Вот ты и обойдись, да только своим, а не моим! — невозмутимо отрезает Козьма, снова пряча вытащенный было кисет.
— Ну и Жила же ты, в самом деле, Козьма! — посыпались негодующие голоса. — Настоящая Жила и есть! Не обеднел бы, ежели по такому случаю на закурку без обмена отсыпал.
— Вот и отсыпайте, а меня тут неча агитировать. Не маленький — сам знаю, как жить надо! Давно научен!
— Ну и подавись, чертова Жила! — не выдержав, срывается внезапно Полковник. — Держи, дядя Вася! Может, разика два еще и затянешься.
С жадностью затянувшись предложенным окурком и мгновенно повеселев, гость раскланивается и направляется к выходу.
— Ну, спасибо! Ублажили! Все повеселей теперь на холоду стоять будет.
— Да чего там! — кричим мы ему вдогонку. — Это нам тебе спасибо-то говорить надо. Впервые еще такую-то вот парашу слышим. Так что заходи почаще да приноси еще что, в том же роде.
— Спасибо за приглашение. А что касаемо параш, то о них не беспокойтесь. После Сталинградского побоища они теперь как из решета посыплются — успевай только подхватывай.
После ухода дяди Васи мы долго не можем прийти в себя, долго не можем успокоиться. Узнав поистине потрясающие новости, взбудораженная палатка гудит и готова едва ли не взорваться от оглушительных криков и нескончаемых словопрений. И только явно выдохнувшись под конец, она снова погружается в сторожкое молчание, а ее взбудораженные обитатели — в самые радужные надежды. С облегчением опускается на свое ложе и возбужденный Андрей, и уже до самого выхода на плац с его измученного лица не сходит счастливая и радостная улыбка.
В таком вот блаженном состоянии мы пребываем до тех пор, пока жестокая реальность вновь и самым решительным образом не дает знать о себе. Расстаться с теплом и радужными мыслями у нас не хватает воли даже после свистка, напоминающего о построении.
— Успеем выйти, — оттягиваем мы неприятную минуту, — все равно до света стоять на плацу.
Первым приходит в себя Папа Римский.
— Выходить бы, мужики, надо. А?.. — нерешительно напоминает он. — Того гляди, плетей схватим, право!
Он вопросительно всматривается в наши полуосвещенные лица и, не дождавшись ответа, покорно смолкает. По лагерю снова разносится назойливая трель свистка.
— Эх! Что серпом по шее, сверчок этот, — уныло сетует Лешка. — Опять на целый день под палку. Да еще на холоду настоишься досыта перед этим.
Наше отсутствие на плацу не остается незамеченным. Энергичным пинком распахнув дверь, в палатку вваливается окутанный морозным паром Гришка-полицай. Его появление не является для нас неожиданностью. Мы давно привыкли к подобным визитам, и они не производят на нас особого впечатления.
— Вас, гады, свисток не касается? — зловеще цедит сквозь зубы Гришка. — Не касается, вас спрашиваю?
Не дожидаясь ответа, он пускает в ход плеть. Спасаясь от ударов, мы кидаемся к выходу и спешим протиснуться в дверь. В одну минуту палатка пустеет. Снаружи еще ничто не напоминает о рассвете. Над лагерем по-прежнему висит густая темнота, и в черном стылом небе над головой пылают необычно яркие крупные звезды. На горьком опыте зная, что всякое отступление от заведенного порядка немедля карается нещадными побоями, мы расползаемся по плацу и спешим заблаговременно занять места в командах. Выстоять на морозе нам предстоит не менее получаса. Ежась от холода и постукивая деревянными колодками, ожидаем мы появления конвоя. Мучительно долгими кажутся эти минуты ожидания. Медленно идет рассвет. В сером полумраке все отчетливей вырисовываются бесформенные копны засыпанных снегом палаток. Наконец слышится скрип открываемых ворот.
— К кому-то угодим ноне? — гадает вслух Яшка. — Не дай бог, ежели к Девочке, а не то к Черному иль Могиле. Эти дадут жизни-и-и!.. Все мозги повышибают.
Нам не нужно пояснять, о ком идет речь. Каждому из нас хорошо известны по присвоенным нами же прозвищам самые изощренные садисты и безудержные матерые убийцы из числа конвоиров, спасающихся за спинами пленных от фронта и потому отличающихся при выслуживании особым рвением, изуверством и свирепостью. Это — женоподобный паныч Девочка, демонически-жгучий Черный унтер, бывший мясник ефрейтор Могила, а также смахивающий на обезьяну штатный заправщик карбидных ламп Карбидчик, белобрысый отпрыск некоего юнкерского рода Белый, только что воспроизведенный в унтеры, а посему особо усердствующий в истязаниях перед начальством, и весьма оправдывающий свое прозвище Бомбило. Все они и многие другие, им подобные, не только жестко следовали инструкциям по обращению с военнопленными, но весьма своеобразно трактовали их и усердно претворяли в жизнь. Они были способны каждую минуту и по любому поводу, а зачастую и без него, не задумываясь, изувечить, а не то и запросто забить насмерть любого из нас. Одно только упоминание о них невольно приводит нас в содрогание.
— Каркай, каркай давай! Как раз накаркаешь! — боязливо ежась, обрывает Колдуна Лешка.
Слышатся мерные шаги конвоя и позвякивание снаряжения. В десяти метрах от нас немцы приставляют по команде ногу и по команде же расходятся. Перед нами останавливается миловидный, смахивающий более на переодетую девушку, нежели на конвоира, немчик с невинными голубыми глазами, нежным девственным румянцем и застенчивой улыбкой на лице. Это Девочка — неумолимый и изобретательный в истязаниях лагерный садист, не брезгующий собственноручными порками пленных и не пропускающий ни одной из них.
— Хоть бы пронесло!.. — шепчет побелевшими губами Лешка.
Мы затаиваем дыхание. Потоптавшись в нерешительности на месте и обведя взглядом выстроенные команды, Девочка в сопровождении нескольких конвоиров подходит к нам.
— Майне коммандо… — мелодичным девичьим голоском утверждает он свой окончательный выбор и, со свойственной ему подкупающей обворожительной улыбкой, добавляет: — Зер гут! Прима коммандо! [11]
— А все Яшка! Накаркал проклятый Колдун! — злобно шипит сзади Лешка. — Ну, держитесь теперь, мужики! Будет нам сегодня! Это уж как есть!