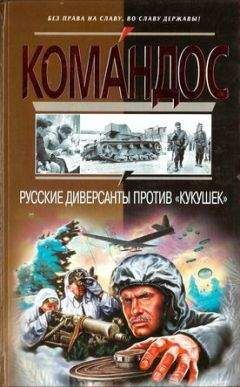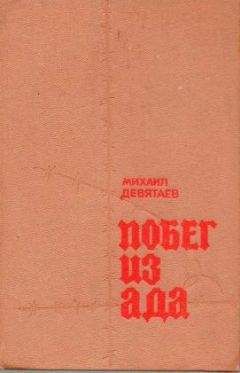— Кабы не завалить, мужики, — хрипя от натуги, высказывает опасение Яшка. — Не сдюжить Доходяге. Какой из него, к шутам, направляющий?
Обессиленный побоями и без того донельзя слабый Осокин, шатаясь от непомерной тяжести взваленного на его хрупкие плечи комля, делает неимоверные усилия, чтобы удержаться на ногах и не упасть. Но опасения Колдуна, как всегда, сбываются. Увязнув в снегу, Осокин замедляет движение и, неожиданно оступившись, падает. Бревно сразу же делает крен и, погребая под собой нас, всей тяжестью обрушивается в глубокий снег. Щедро награждаемые пинками и прикладами, мы тщетно и долго барахтаемся в снегу, пытаясь из-под него как-то выкарабкаться.
Все наши последующие потуги вновь взвалить бревно на плечи ни к чему не приводят. Убедившись в бесплодности наших отчаянных усилий, Девочка прибегает к перестановке и, отшвырнув Андрея, ставит на его место Жилина.
— Особенно не старайся, Жила! — спешим мы предупредить его. — Увидит, что не под силу, добавит людей с трассы.
— А пошли вы все к … матери! — не обращая на нас внимания, с усердием берется он за комель. — Не хватает еще, чтобы и мне из-за вас ребра пересчитывали. А ну, взя-я-ли!
— Давай, давай! — с неприязнью напутствуем мы. — Проявляй себя, выслуживайся за окурок!
По его команде мы нагибаемся и после непродолжительных усилий поднимаем бревно из снега. Тяжеленный комель Козьма несет один за троих, играючи, легко и плавно, приводя в неистовый восторг ликующих немцев.
— Гут, зер гут! [22] — визжит от восхищения Девочка.
Сбросив бревно на трассе, мы сразу, подгоняемые усердием Жилина, возвращаемся за следующим и, оставив всякую надежду на увеличение команды, уже до конца дня не знаем ни минуты отдыха и покоя. Всячески поощряя Козьму, немцы щедро оделяют его табаком и бутербродами. Не забывают они и Осокина, которого с холодной и тупой методической расчетливостью продолжают время от времени жестоко избивать.
— Хойте абенд нихт бекоммен брот, нихт бекоммен суппен! Бекоммен айне вассер! [23] — не ограничиваясь побоями, грозит ему Девочка.
Не выдержав издевательств и побоев, Андрей падает, и никакие угрозы, ни свирепые удары прикладом и плетью не в силах поднять его на ноги.
Мучения наши прекращает свисток, оповещающий об окончании работы. Облегченно вздохнув, мы сбрасываем последнее бревно и, подобрав Андрея, выстраиваемся на трассе. Обратный путь мы проделываем более спокойно. Занятые разговором, конвоиры не обращают на нас особого внимания, и, предоставленные самим себе, мы не спешим двигаться быстрее. Движение к тому же задерживают обессилевшие и избитые, которых, замыкая колонну, ведут под руки их товарищи.
К Девочке возвращается благодушное настроение. С его лица по-прежнему не сходит подкупающая обманчивая улыбка, ничем не напоминающая недавнего зверя. А мы, шатаясь от усталости и побоев, с неизменной древесной чуркой под мышкой молча шагаем по шпалам, бережно поддерживая до полусмерти избитого Андрея. Доставив его полуживым в лагерь и добравшись наконец-то до своей палатки, мы укладываем его на нары.
— Как ты на трассу-то пойдешь завтра? — беспокоимся мы. — Не встать тебе будет утром…
— Ничего! Отлежусь вот за ночь и подымусь, — слабым голосом обнадеживает он нас. — Чего мне сделается? Не впервой уж, кажется. Да и живуч я, как кошка.
— Да ты у нас гер-о-о-й!.. Тебе ведь все нипочем! — с недоверием качает головой Полковник. — До полусмерти уделают, все храбришься, героя из себя строишь.
— Да, право же, встану! — словно оправдываясь, виновато убеждает его Андрей. — Вот увидишь!
— Ну, ну! Посмотрим! — бурчит, отходя от него, Полковник.
Оставив Осокина в покое, мы, обсуждая события нелегкого дня, переключаемся на Жилина.
— Как же это ты, паря, нас подкозьмил-то ноне? — первым подступает к нему с попреком обычно несловоохотливый Папа. — Негоже ведь этак-то: одному-то — супротив всех. Забыл вот и про уговор: не помогать, а пакостить фашистам. Эх, ты!.. А еще товарищем почитался!
— А вы мне — не указ! Как хочу — так и живу! — с неожиданной наглостью отрезает тот. — Тоже мне, нашлись указчики! Стать калекой из-за вас, або жизни лишиться меня никто не заставит. Мне моя жисть покамест еще не надоела.
— А на нашу жизнь, выходит, тебе трижды наплевать? И на то, что вот товарища из-за тебя в гроб загоняют, тоже? — не на шутку взрывается Полковник. — Похоже, вторым Иудой захотелось стать. А тот, сам знаешь, чем кончил. Тебе бы, кстати, не мешало об этом вспомнить.
— Нет того дня, когда бы Доходягу-то не молотили. Так я-то тут при чем? — заметно поубавив тон, заизворачивался Козьма. — Я ни на него, ни на кого немцев не натравливаю. Тут уж всяк сам по себе и всяк сам за себя отвечает.
— Хватит прикидываться-то невинной овечкой! Кабы не ты со своим холуйским усердием, так немцы сегодня и людей бы добавили, и Андрея бы избивать перестали, да и нас бы вот так не измотали. Сам-то вот выслужился, а остальных под приклады загнал. Это ли не натравливание?! Давно я к тебе, Жилин, приглядываюсь. Все думал, что хоть и с заскоками, а свой парень, а вот сегодня убедился, что ты — настоящий немецкий холуй и за слюнявый окурок, не задумываясь, продашь любого из нас. Смотри, Козьма, как бы не пришлось тебе когда пожалеть обо всем этом да за все расплатиться. Плохим все это может для тебя кончиться. Не знаю, как для других, а для меня ты с сегодняшнего дня — не товарищ.
— Да что это вы все ко мне прилепились? Говорю: нет моей вины ни в чем! И отцепитесь от меня! Тут бы только отдыхать сейчас после этакого-то дня, а они обсуждение затеяли. Не намаялись, выходит!..
Мы и в самом деле еле держимся на ногах и потому, бросив по его адресу еще несколько колких нелестных реплик, утихомириваемся и благоразумно смолкаем в томительном ожидании скудной пищи.
Дождавшись, когда Кандалакша растопит печь, а посланные доставят с кухни ведро баланды и хлеб, мы, поделив жидкое пойло, при всеобщем пристальном наблюдении за его перемешиванием и полнотой набираемого черпака, приступаем к священнодействию дележки хлеба. Операция эта в неволе отнюдь не простая и поручается только строго избранным и доверенным палаткой лицам, которые и производят ее под неусыпным и придирчивым наблюдением всех присутствующих. Для этой цели извлекаются «весы», способные появиться только в лютой бесправной обстановке, они представляют из себя два тонких деревянных заостренных колышка, подвешенных к деревянному же бруску со шнурком. На этом бесхитростном и примитивном изделии и уравновешиваются нанизанные на колышки куски порезанного хлеба. Всей палаткой мы не сводим глаз с этой процедуры, готовые в любой момент буквально взорваться при малейшем отступлении от правил взвешивания, не допуская пропажи даже крошки хлеба, когда производится докладка к пайке его невзвешенных остатков. Распределение хлебных порций происходит весьма своеобразным способом, свойственным только нашим условиям. Для этого один из нас отворачивается и, стоя спиной к раздатчику, принимается назначать претендентов на выкликаемые порции.
— Кому? — спрашивает раздатчик.
— Доходяге! — назначает отвернувшийся.
— Кому?
— Поперешному!
— Кому?
— Сосвятымиупокою!
— Кому?
— Конопатому!
— Кому?
— Папе Римскому! — И так до последней порции.
Мгновенно истребив поделенное жалкое довольствие, мы совершенно обессиленными валимся на нары. Закончился еще один день в фашистской неволе. Но это был особый для нас день. Незабываемый день! День, освещенный немеркнущим заревом победного Сталинграда.
Банный день
Сегодня выпал на редкость тяжелый день. К обычным побоям и мукам неутолимого голода на этот раз присоединилась еще и лютая стужа. Стоит тридцатисемиградусный мороз. И спасаясь от убийственного холода и обморожений, мы с самого утра работаем не разгибаясь, с усердием, отнюдь не рассчитанным на наши планы и силы. Останавливаться нельзя. Сразу же холодеет и замедляет свой ток едва пульсирующая в нас кровь, цепенеют обескровленные конечности, и сон, желанный, соблазнительный и недолгий сон, тут же услужливо обволакивает сознание. К тому же и немцы, прибегнув к защите костров и нимало не страдая от холода, ни на минуту не упускают нас из поля зрения и с помощью вездесущих мастеров и полицаев зорко следят за каждым нашим движением. При малейшей попытке приостановиться они, со свойственными им приемами, тотчас же отбивают не только охоту к этому, но нередко и внутренности. Выбиваясь из последних сил, мы все-таки крепимся и, тупея от мук и отчаяния, прилагаем нечеловеческие усилия, чтобы дотянуть до свистка. Нелегко это нам дается! К концу работы мы настолько выматываемся, что начинаем сомневаться, дойдем ли до лагеря.