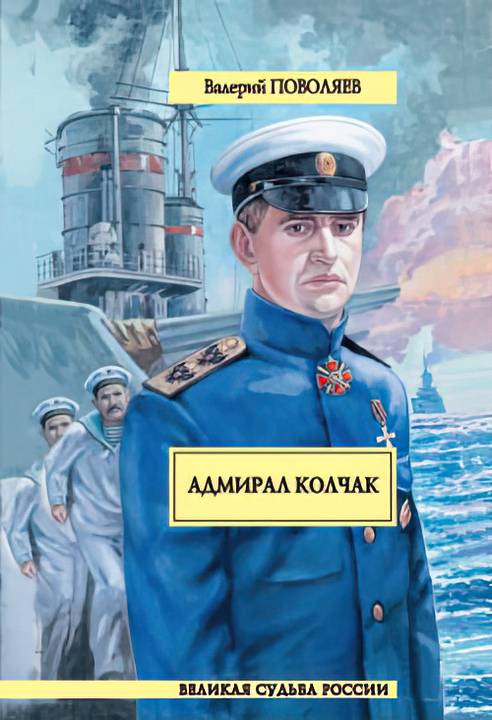удар, за ним второй, малость послабее, машину приподняло над понтоном, и Максимыч с криком полетел в воду. Рядом с ним в мутные жесткие волны шлепнулся пулеметный ствол, срезанный со станины, и тут же ушел в непроглядную речную глубину, рядом плоско распласталась, рассыпаясь на лохмотья ивовая кошелка, связанная из прутьев специально для гусенка, еще что-то, за что глаз пулеметчика не зацепился, поскольку к его хозяйству не имел отношения…
На пару метров Максимыч ушел в глубину, в воде ухватился за голенища толковых трофейных сапог, которыми обзавелся совсем недавно, точными, хотя и машинальными движениями подтянул их и тут же очутился на поверхности…
Первым, кого он увидел, был гусенок с полоской крови на голове. Вид у гусенка был такой, будто он собирался нырять вниз, в глубь этого неприятного Одера, если хозяин вдруг не всплывет. Максимыч отплюнулся – в деревне он был первым пловцом: по речке мог плавать не только поперек, но и вдоль, не говоря уже о прудах, которых у них было два и где водились крупные раки: пруды были глубокие – захлебнешься, прежде чем донырнешь до дна и рачьих нор, поэтому добыть клешнястого спутника боченочного пива было делом непростым… Но практика у Максимова была.
Максимыч оглушенно потряс головой. С понтона ему бросили спасательный круг, привязанный к веревке, сделал это все тот же мальчишка в старой каске, нахлобученной на этот раз на его голову, как ночной горшок – небрежно и косо. Он выпрыгнул из кузова своей малосильной полуторки, едва «студебекер», идущий впереди, был оторван от понтона фашистским снарядом.
– Хватайся, дядя! – прокричал паренек, но до пулеметчика его голос не дошел, – что-то сильно шумело в ушах, хотя, может, шумело не в ушах, а в нем самом, глубоко внутри – возможно, сердце лопнуло или порвалась какая-нибудь аорта?
– Хватайся за круг, дядя! – тем временем разрывался паренек, поддевал кулаком каску, сползающую ему на нос, загонял ее на затылок, но она снова ползла на мокрый от воды нос, и паренек морщился от досады: старый солдат с ефрейторскими лычками на погонах не слышал его.
Около Максимыча плавал гусенок. Попав в родную стихию, он совсем не обращал на нее внимания, барахтался рядом с человеком, суетился, хлопал крыльями, даже подныривал под него, словно бы стараясь помочь, кричал… Именно его крик дошел до Максимыча первым, а уж потом возникло ощущение опасности.
На фронте это ощущение оттачивается особенно, – как и чутье, – беду опытные фронтовики могут почувствовать за несколько дней.
Одной рукой он зацепился за круг, просунулся в него по самое плечо, второй подхватил гусенка – боялся потерять. В родной стихии он погибнуть никак не мог, умереть ему было дано только от пули или осколка, да еще – от топора капитана Щербатова.
Снаряды сильнее всего кромсали первую понтонную нитку, на которой сейчас находились машины с родным батальоном Максимыча, хотя уже начали взрываться и около свежих переправ, проложенных рядом.
Пулеметчика благополучно вытащили на нещадно гремящий железный понтон и вместе с гусенком усадили в кузов полуторки. Парнишка в каске кинул ему брезентовый пояс, которым укрывались бойцы в кузове во время перемещения под сильными здешними ливнями.
– Накинь на себя, дядя, здесь холодно. На берегу выжмешь одежду.
От реки действительно несло лютой северной студью, словно бы истоки Одера находились где-нибудь в вековых ледниках Шпицбергена или Земли Франца-Иосифа…
Через полминуты Максимыч вновь увидел около себя этого мальчишку, он сунул пулеметчику фляжку с отвинченной пробкой.
– Хлебни пару глотков, дядя. Больше мужики не разрешают, это неприкосновенный запас… А пару глотков, говорят, можно. Чтобы какой-нибудь коклюш не прицепился.
– Коклюш! – хмыкнул Максимыч и сделал два аккуратных глотка из фляжки. Вкуса водки почти не почувствовал – так остудила его вода Одера, – вернул фляжку пареньку. – Спасибо, друг сердечный… Как тебя зовут?
– Зовут? Сенькой. Сенька Кузнецов, вот как будет.
– Хорошее имя и хорошая фамилия, – похвалил Максимыч, зябко передернул плечами и молвив едва слышно что-то невнятное – не заболеть бы! – уткнулся лицом в мокрую одежду, притянул к себе гусенка и затих.
День, когда переправлялись через Одер, не был счастливым для батальона, скорее наоборот, – при самом выезде с раскачивающегося, как при шторме, понтонного моста на землю снаряд угодил в первую машину, где находился Щербатов.
Мотор у «студебекера» развернуло розой, – несколькими лепестками-складками, кабину разломило по лоскутам, выдернутый из гнезда руль унесся в пространство, сбил с ног какого-то майора, стоявшего на берегу с открытым ртом, – майор прибыл из политотдела понтонного полка прочитать бойцам лекцию о международном положении, но кто ее будет слушать здесь, в Берлине, в двух шагах от победы?
Водитель «студебеккера» был убит, Щербатов ранен. Командование батальоном вновь перешло к Фарафонову.
Щербатова кое-как перебинтовали на берегу и с медсестричкой Лизой – шустрой пятидесятилетней женщиной-санинструктором, у которой на верхней губе, как у Чапаева, росли приметные темные усы, увезли в госпиталь.
Вот так судьба распорядилась с людьми на одной лишь переправе, – а таких Одеров в жизни Максимыча и его товарищей было много… И будут еще. Даже несмотря на близкий конец войны…
А победу уже ощущали все, в том числе и гусенок, добравшийся до Одера вон откуда, с Волги – аж из самого Сталинграда.
Еще во время переправы Максимыч обратил внимание, что, несмотря на визг снарядов и пороховой дух, стелющийся над землей, на высоковольтных опорах, врытых в реку, сидели солдаты, чинили электричество, – и обрадовался этому: по колхозу своему он знал, что это такое и вообще что значит электричество в жизни земли, людей, всякого хозяйства, имеющего свои поля, одобрил это дело: оперативно работают ребята, время не теряют…
Невольно подумал о том, что когда немцы пришли на советскую территорию и начали распоряжаться на ней, как у себя дома, чинили ль они линии электропередач, гидростанции, котельные и отопительные узлы, прочее имущество, разбитое войной?
Вряд ли.
Максимыч никогда и ничего об этом не слышал. Не было этого.
Шестнадцатого апреля, ранним утром, – хотя рассветом еще даже не пахло, небо было угольно-темным, туманным, ни одной звездочки не было видно в этих шахтных пластах, – наши войска начали разламывать оборону главного германского города.
Первыми долбить толстую бетонную скорлупу начали «катюши», – вот и наступил их черед, – дали несколько залпов, подожгли не только землю, но и камни, и воду, и воздух; за «катюшами» заговорили все стволы, что имела подошедшая к Берлину наша артиллерия, все сказали свое слово, – кроме, может быть, легких противотанковых сорокапяток, которые бойцы таскали на себе.
Когда отработала свое артиллерия и в дырах немецкой обороны горело все, что только могло гореть – доты, дзоты, танки, врытые в землю, пушки, стоявшие в боевых капонирах, зенитные и пулеметные точки, в бой рванулись танки и самоходные орудия САУ, – они пошли прямо следом за