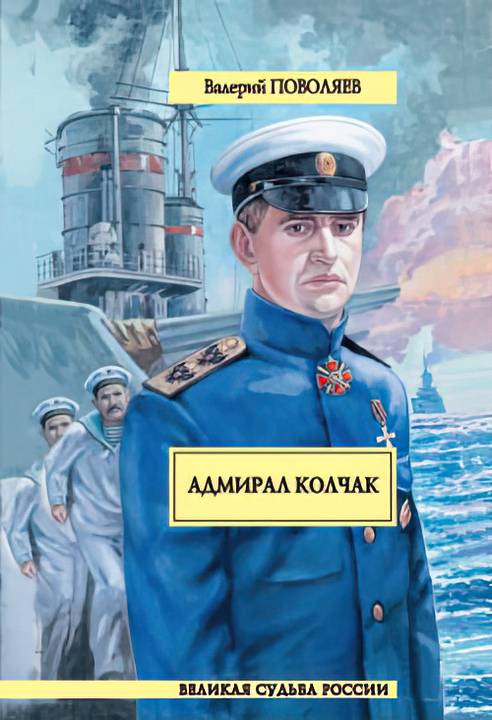Жукову с просьбой о перемирии, маршал в этом Кребсу отказал.
Вернувшись в свой штаб, Кребс спокойным голосом отдал несколько распоряжений своим заместителям, после чего поднес пистолет к виску и застрелился.
Несколько часов в Берлине стояла тишина, от которой у не очень опытного бойца запросто могло что-нибудь поехать в голове, – эсэсовцы не стреляли, надеясь на чудо, наши тоже молчали, и лишь один звук царил в городе, – треск раздуваемого ветром пламени. Страшный это был звук. Что ж, немцы достигли того, чего добивались. Под командой своего фюрера.
Комендантом Берлина после выстрела Кребса был назначен генерал Вейдлинг, – тот самый серый генерал, депутат рейхстага, который отличился в борьбе с партизанами Украины и Белорусии, был взят в плен, разоружен, но ночью бежал из сарая, в который его посадили, оставив на охапке сена свой парадный мундир со всеми наградами и значком депутата, но вот видите, каков был поворот судьбы – он оказался последним комендантом Берлина. И вряд ли бы о Вейдлинге сейчас кто-нибудь заговорил, если бы он не подписал акт о капитуляции берлинского гарнизона…
Максимыч читал в одной из дивизионок – дивизионной многотиражке – заметку о Вейдлинге, очень ему этот «выдвиженец» не понравился, – заметку до конца не дочитал и передал газету второму номеру:
– Держи на самокрутки!
– Спасибочки! – по-школярски поблагодарил Малофеев, затем пробухтел с неожиданной гордостью: – Из наших газет самокрутки получаются качественнее, чем из немецких, да потом немецкой бумагой отравиться можно…
Наверное, так оно и было.
Берлин был взят и зачищен, как принято ныне говорить, – зачисткой занимался пограничный полк, носивший наименование Рижского, патрули в зеленых фуражках (впрочем, фуражки эти форменные были только у командиров групп) брали в первую очередь эсэсовцев, – эта организация была признана преступной, с каждым эсэсовцем в отдельности должен был разбираться суд, слишком уж много крови было на их руках.
Вопрос о том, чтобы из гусенка сварить душистый шулюм, уже не стоял… Не для этого он прошел путь от Сталинграда до Берлина, да и не обессилевший тощий гусенок это уже был, а настоящий важный, умный и знающий себе цену гусь.
Он уезжал вместе с Максимычем на родину пулеметчика, в Орловскую область, в переживший оккупацию колхоз, где землю весной сорок пятого года пахали, как знал Максимыч из письма жены на старом танке со снятой башней, а боронили на коровах – родных буренках, выживших, честно говоря, с трудом.
Из села, где жил Максимыч, немцы были выбиты очень скоро, так что позлодейничать им не удалось, пришлось прикрывать свои задницы фанерками, на которых удобно съезжать с гор и по крутым орловским холмам, перемахивая с одной вершины на другую на полустертой фанерке, драпать к своим. Благодаря скорым действиям Красной армии коровы и остались живы и теперь подменяли собою лошадей.
Хорошо, что хоть плуги не таскали, эта тяжелая работа досталась танку со спиленной башней… Вот туда и направлялся бывший гусенок, а ныне, повторюсь, настоящий гусь, уже большой, с красными лапами, зоркими петушиными глазами, крепким клювом и коротким, шустро и очень смешно подергивающимся хвостом.
Надо отдать должное Максимычу – он позвал старшину Сундеева, своего напарника Малофеева, себя хлопнул ладонью по груди, на которой серебряным звоном отозвались многочисленные медали, пулеметчик в этой компании был третьим, – и сказал следующее:
– Все мы в одинаковой степени опекали нашего сталинградца – кормили-поили его, спасали от разных любителей жареной гусятины, совали в укромное место во время артналетов и тем более – бомбежек… В общем, у гуся нашего судьба солдатская, он мог много раз погибнуть, но не погиб. Поэтому давайте поступим так: с кем гусь захочет пойти дальше, с тем пусть и идет.
– А как нам это определить?
– Очень просто. – Максимыч достал из кармана новеньких, выданных по случаю победы рубчиковых бриджей кусок мягкого хлеба, разломил его на три части, дал по куску Сундееву и Малофееву, один кусок взял себе. – Теперь образуем круг пошире и в центр его поставим гуся. К кому он пойдет за хлебом, с тем и уедет из Берлина.
– Интересно, – сказал Сундеев, – не думал, что ты такой изобретатель, все можешь точно рассчитать, как татарин на дореволюционном рынке в Гатчине, и свести концы с концами.
– Позови-ка нам повара, – попросил Максимыч своего напарника, – пусть заглянет к нам. – Пулеметчик похмыкал в кулак. – Насчет татарина в Гатчине до семнадцатого года ничего не знаю, но татары – народ даровитый, умный, да и в бою не подводит, это ты, Егорыч, должен знать по себе.
Пришел повар, стянул с головы колпак и, честно говоря, удивился несказанно:
– Вы чего, ребята, втроем не можете справиться с одной посудиной и пригласили четвертого? Ну вы и даете, господа-товарищи хорошие! Где бутылка-то?
Максимыч остановил его движением руки, объяснил, в чем дело, и велел встать в центр широкого круга. Повар подхватил гусенка, ласково погладил его, что-то произнес на ухо, дунул, еще раз погладил по голове, и гусенок, начавший было нервничать, быстро успокоился.
– Молодец, – сказал ему повар, поставил у своих ног и до команды старшины, избранного судьей, не отпускал, а когда Сундеев произнес «Вперед!», отнял руки от гусенка.
Тот, почувствовав свободу, присел, будто спортсмен, сжался, втянул в себя шею, – в общем, вел себя, как опытный физкультурник, который перед стартом обязательно группируется, – в следующий миг рванулся вперед.
Он громко топал лапами, заваливался то на один бок, то на другой, крякал что-то, подгоняя себя и стараясь как можно скорее добраться до одного человека, стоявшего перед ним с куском мягкого хлеба… Вид у него был такой, что не дай бог, Максимыч откажется от него, – тогда уж лучше голову под топор и в кастрюлю к капитану Щербатову. Лучше так.
Видать, в воздухе замаячила тень раненого любителя гусиного супа, капитан не мог успокоиться и в госпитале: на площадке, где собралось наше вече (совсем не новгородское), чтобы решить судьбу гусенка, неожиданно появился лейтенант Пустырев; засмеявшись, потер руки – настроение у него было хорошее.
– О чем толкуем, славяне? Думаете, не двинуться ли нам на Париж, как это хотели сделать русские казаки в восемнадцатом веке, разбив пруссаков у Кунерсдорфа и взяв Берлин? – Пустырев был человеком грамотным, знал кое-что из того, чего неплохо было бы знать и Сундееву с Максимычем. – Я сегодня у Щербатова был, так он интересовался здоровьем одного гражданина…
– Какого же? – неожиданно усмехнувшись в себя, сделав это довольно ехидно и открыто, спросил Сундеев. – Этого, что ль? – он показал пальцем на гусенка, который уже находился в руках у Максимыча.
– Этого.
– Передайте товарищу капитану – будет у него гусь. Достойный. Можем доставить двулапого, можем четырехлапого – пусть выбирает. Суп получится вкусный. А можем яблок подкинуть… Будет гусь с яблоками. А этот гусь… Этот гусь, считай, уже демобилизовался из армии, гражданский паспорт получил, скоро ему домой,