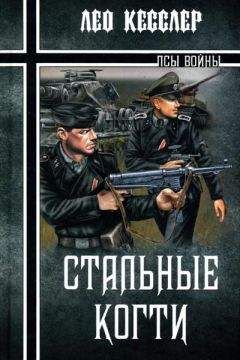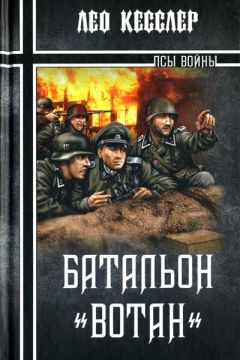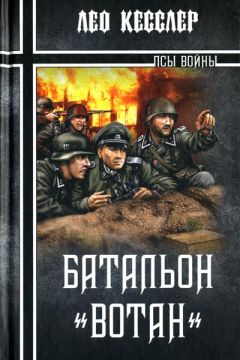— Мне нужен не чай с мятой, а кое-что покрепче, моя маленькая пантера, — процедил он. — Я только что провел пять весьма неприятных минут в кабинете у фюрера.
Берта с сочувствием посмотрела на Гиммлера и, приблизившись к шкафчику, достала оттуда бутылку с вишневым ликером. Они позволяли себе выпить немного этого ликера раз в месяц, вечером, когда у Гиммлера были силы и желание иметь с ней интимную близость. Берта налила рюмочку Гиммлеру, а затем и себе.
— Твое здоровье! — сказал рейхсфюрер, поднимая свою рюмку.
— Твое здоровье, — произнесла она и погладила его редеющую шевелюру своими пальцами, лишенными какого-либо лака на ногтях. — Генрих, ты знаешь, прошло всего две недели с тех пор, как мы занимались… ты сам знаешь чем. И остается еще целых две недели до того момента, когда мы сможем это повторить… — Она смущенно опустила глаза.
— Да, я знаю, любимая, — кивнул он. — Но я хотел выпить рюмочку ликера только для того, чтобы немного взбодриться.
— Что же все-таки случилось? — спросила она и поудобнее устроилась на его тощих коленях.
— Похоже, что одно из моих подразделений на Восточном фронте дезертировало. И наш любимый фюрер распорядился, чтобы я предпринял в отношении этого подразделения самые жесткие меры. Но сама мысль о том, что я обязан расправиться с моими любимыми эсэсовцами, причиняет мне ужасную боль. Я чувствую себя больным из-за этого.
— Мой бедный Генрих, — промурлыкала она. В ее глазах засверкали слезы. — Какой же тяжкий груз ответственности тебе приходится нести на протяжении всей этой ужасной войны! — Еще раз внимательно взглянув на Гиммлера, она приняла решение. — В таком случае, ты заслуживаешь того, чтобы немного побаловать тебя сегодня. После этого ты сможешь лучше разобраться со всем этим неприятным делом.
Гиммлер улыбнулся:
— Спасибо, любимая. — Он взглянул на нее и с надеждой добавил: — Когда ты говоришь «побаловать», имеется в виду… всё?
— Всё, — кивнула она. Сняв очки, она опрокинула в себя рюмку с остатками вишневого ликера.
— В том числе и хлыст? — не отставал он, слегка удивленный и заинтригованный ее необычной покладистостью.
— Хлыст будет обязательно, — сказала Берта. Ее голос стал гораздо более звучным и угрожающим. — Ты плохо вел себя. Так сказал сам фюрер. И теперь ты должен быть наказан за это, мой мальчик. — Она с яростью посмотрела на него. — Я пойду в нашу спальню и приготовлюсь. На это мне потребуется некоторое время. А ты готовься. И горе тебе, если ты не приготовишься как следует. Потому что сегодня я не буду нянчиться с тобой. Тебе это ясно?
— Да, госпожа, — покорно сказал Гиммлер. Сердце уже подпрыгивало у него в груди от мыслей о той боли, которую ему предстоит вытерпеть, и о том наслаждении, которое эта боль на самом деле доставит ему.
— Прекрасно. Когда я скомандую, ты постучишься и войдешь. И после этого сознаешься мне во всех своих грехах. Это ясно?
— Да. — Он вздрогнул всем телом.
— Отлично. Я рада, что ты прекрасно понимаешь, что бесполезно что-либо скрывать от меня. Это лишь утяжелит твое наказание. А в том, что тебя надо обязательно наказать, нет никаких сомнений.
— Я это понимаю, — сказал Гиммлер. Его голос дрожал.
— Ты должен быть жестоко наказан, — проговорила Берта низким голосом. — Очень жестоко!
— О да, госпожа…
— А теперь мне пора идти. — Она решительно направилась в сторону спальни. Ее увесистые ягодицы внушительно колыхались из стороны в сторону. Гиммлер застыл в кресле, вздрагивая и размышляя, не может ли он опрокинуть еще одну рюмочку ликера. После нескольких минут мучительных раздумий он все-таки решил, что может — это придаст ему храбрости, в которой он так отчаянно нуждался. Но едва глава СС нащупал бутылку, как вздрогнул от ее резкого голоса:
— Входи сюда, раб. Немедленно… или ты поплатишься за это, ничтожный маленький червь!
Повелитель миллионных армий рабов, разбросанных по всей Европе, начальник организации, которую ненавидели и боялись все, человек, при упоминании имени которого вздрагивало пол Европы, — вскочил на ноги.
— Я иду, госпожа! — воскликнул он. Рот Гиммлера внезапно пересох, стоило ему только услышать, как Берта щелкнула хлыстом. — Я иду… немедленно.
— Ради всего святого, поторопись, — угрожающе протянула она, — иначе я исполосую своим хлыстом твою тощую маленькую задницу так, что ты будешь рыдать от нестерпимой боли.
— Я иду, — дрожащим голосом промолвил он. — Честно, я уже иду к тебе.
— О, Генрих, как ты повелевал мною! — промурлыкала Берта, когда они вновь вошли в кабинет Гиммлера. Все рубцы и раны рейхсфюрера были тщательно присыпаны пудрой. — Какой же силой ты обладаешь, мой дорогой!
Он кивнул и решил, что лучше уж постоит — после побоев его ягодицы чувствительно побаливали. У него была такая нежная кожа… Но чувствовал он себя все равно значительно лучше. А самое важное, он действительно ощущал, что может теперь повелевать другими.
Когда Гиммлер вошел в спальню, шторы были наглухо задернуты, а на прикроватном столике горела одна-единственная лампа с красным абажуром. Берта тоже полностью преобразилась. Она сбросила с себя мешковатый костюм, туфли, подходящие фрау средних лет, и сняла очки. Теперь на ней был полупрозрачное черное шелковое неглиже, сквозь которое щедро просвечивало ее чувственное тело. На ее ногах были высокие кожаные черные сапоги, а в руках она держала тонкий хлыст, который выглядел весьма угрожающе. Как только Гиммлер увидел этот хлыст, он тут же начал дрожать всем телом, отлично понимая, что сейчас последует.
— Чего же ты ждешь, раб? — произнесла она глубоким грудным голосом с угрожающими интонациями. — Снимай с себя всю одежду. Снимай ее побыстрее! Немедленно! А не то тебе будет совсем худо! — Она пристукнула хлыстом по своей ладони. Гиммлер подпрыгнул от ужаса и стал торопливо срывать с себя форму, глядя на женщину голодными, вожделеющими глазами. Она пристально смотрела на него, то и дело постукивая хлыстом по ладони. Эти звуки были похожи на тиканье часов, отсчитывающих секунды перед тем, как начнется наказание.
Когда Гиммлер встал перед ней, полностью обнаженный, она бросила быстрый взгляд на его худосочное тело и неширокую грудь, совершенно лишенную растительности.
— И это все, что ты хочешь продемонстрировать своей госпоже, несчастный? — пророкотала она и слегка приподняла кончиком хлыста сморщенный миниатюрный пенис Гиммлера. — Как ты можешь удовлетворить меня, как ты можешь вгрызаться в мое нутро таким крошечным бесполезным инструментом? — И она легонько ударила кончиком хлыста по сморщенному члену рейхсфюрера СС. Гиммлер подпрыгнул от боли.
— Извините меня, госпожа, — жалким голосом пролепетал он.
— Ты всегда просишь у меня извинений, — резко бросила она.— От тебя я всегда слышу одни только извинения. Ну что ж, мой милый, боюсь, сегодня я уже не приму от тебя никаких отговорок. Тебе придется заплатить за все свои упущения и все грехи. Становись на четвереньки, быстро!
— Я действительно должен сделать это? — спросил Генрих Гиммлер. В его голосе различалась странная смесь страха и предвкушения небывалых удовольствий.
— Ты стал совершенно бесстыдным! Я не желаю больше ничего от тебя слышать! Ни одного слова! Как ты смеешь спрашивать о чем-то свою госпожу?! На четвереньки, немедленно! — Она угрожающе прищелкнула хлыстом.
Гиммлер торопливо опустился на четвереньки. Его сердце бешено колотилось.
— Ну-ка, выстави вперед свой тощий зад, — потребовала женщина. — Немедленно!
Гиммлер изогнулся, выставляя вверх свои бледные ягодицы.
— Не будьте слишком жестоки со мной, госпожа, — попросил он тонким, странно изменившимся голосом. — Пожалуйста…
Берта злобно расхохоталась.
— Ты получишь то, чего заслуживаешь, отвратительный негодяй, — и принялась хлестать его хлыстом по заднице. Она хлестала его так сильно, что из груди Гиммлера вырывались неконтролируемые вопли. В них боль была смешана с затаенной радостью. Затем она принялась ломать и выкручивать ему руки. Лицо Берты раскраснелось, по ее телу катились капли пота. А он дрожал и извивался в ее цепких руках и то и дело вопил:
— Пожалуйста, не надо! Ну пожалуйста… Умоляю… остановись…
Через десять минут, весь исполосованный хлыстом, с кровоточащими рубцами на спине, Гиммлер мощно вошел в ее тело и решительно овладел им. Прижимая рейхсфюрера к своей потной груди, Берта то и дело вскрикивала:
— О, как мне хорошо с тобой, Генрих, мне хорошо!
* * *
Сейчас же Генрих Гиммлер стоял перед Бертой со спиной и ягодицами, которые были исполосованы ее хлыстом и побаливали, но зато бесконечно уверенный в себе, в своих силах и в способности вершить судьбы других людей. Теперь он больше не страшился гнева фюрера. Посмотрев на Берту, он сказал ей: