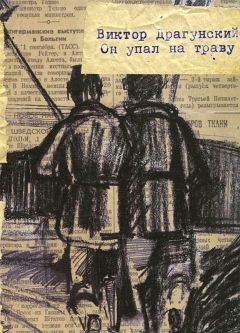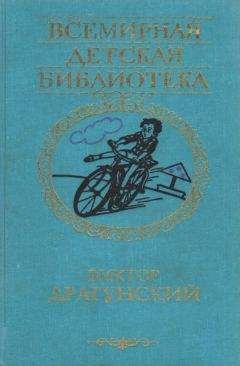— Лёшка! В сторону! Берегись!
Он сразу понял, пригнул голову и быстро передвинулся на коленях вправо, а пень повалился боком, очень мягко подвернул мой палец под сучок и наконец, словно окончательно надумав, как мальчишка, ринулся галопом вниз, скача и подпрыгивая легко, несмотря на свой вес. Он так и докатился до самой речки, скача и приплясывая, вбежал в речку по сукастые свои колени и встал.
А я смотрел на свой большой палец. Он висел почти отдельно, как с чужой руки. Он уже синел. Испарина выступила у меня на висках. Лёшка подбежал ко мне. Он сказал:
— Сломал?
Я сказал:
— Не знаю.
Вокруг уже собралось много народу. Степан Михалыч положил мою кисть на свою широкую ладонь.
— Нет, — сказал он, — не сломал, нет.
— Растяжение, — сказал Тележка.
— Вывих…
— Теперь тебя отправят…
— Не работник, ясно.
Стоявший неподалеку Каторга, вытянув шею, каркнул:
— Это он сам над собой сделал, самострел клятый…
Лёшка погрозил ему кулаком.
— Позовите Сёму, — сказал Байсеитов.
Серёжа Любомиров сказал:
— Сейчас.
Но кто-то уже вёл Сёму. Он был как гном, бородатый и горбатенький. Я его знаю по Москве, он расклейщик афиш, свой брат, такой же, как и я, служитель муз.
— Ну-ка, — сказал Сёма, — покажь.
Он погладил мой палец осторожно, не причинив боли, наоборот, даже приятно было.
— Этот палец, — сказал Сёма важно, — этот самый палец выскочил из своего гнезда. Держите огольца. И ничего особенного.
Лёшка обнял меня сзади за плечи и прижал к себе. Мне было слышно, как в левую мою лопатку сильно стучится Лёшкино сердце. Сёма взял мою руку и сказал убаюкивающе:
— Закрой глаза.
Я закрыл, но не сдержался. А Сёма сказал, отходя:
— А зачем орёшь? Орать не надо. Операция закончилась. Затяни чем-нибудь. Освобождение, конечно. Ну, хошь на день. Доложись командиру.
Я смотрел на его горбик, бородку, кривые ноги и подумал, что он, наверно, в самом деле гном и колдун, это он притворяется, что он расклейщик. Палец, хоть и болел, и был синий, и опух ужасно, а всё-таки он болел нормально, как-то по-другому, чем минуту назад. Да здравствуют гномы!
Я пошёл к штабу и разыскал Бурина. Он долго и пытливо рассматривал мою вздутую кисть и синий палец, потом подозрительно спросил:
— Это как же вышло?
Я рассказал ему. Он рассердился.
— Испугался, значит, за дружка?
— Да.
— Он бы сам отбёг. Надо бы тебя на губу или судить как дезертира!
Я сказал:
— Ты спятил, Бурин. А если бы задавило Фомичёва?
— Брось, — сказал он жёстко. — Не ной. Я тебя знаю, не думай. И только поэтому, чёрт с тобой, отдыхай, гуляй, ваше сиятельство, барствуй! Валяй, значит, лодыря, через свои нерьвы. — Это он в насмешку так сказал — «нерьвы», и покривил едко губы. — Но завтра выходи на трассу! Не сможешь — отправлю. Иди.
Он отвернулся. Ишь ты, какой железный командир! Он меня отправит! Ты подавишься семь раз, прежде чем меня отправишь. Я тебе покажу «нерьвы». Я шёл от него, проклиная всё на свете.
15
— Здравствуйте. Что не на работе?
Она окликнула меня из своего проулка, когда я шёл от Бурина, злой как чёрт. Я шёл к нам в избу, к тётке Груне. Не обратно ж на трассу идти, стоять там столбом. Я очень обрадовался, когда увидел её. Я просто опять окаменел: да разве бывает такое лицо не на картинах?.. В кино у нас все уступили бы ей по красоте; если честно подходить — они и пятки её не стоили.
Я сказал:
— Здравствуйте, Дуня. Освобождение получил. Вот палец…
Она осматривала палец, а я думал: ландыш. Только ландыш такой красивый, и Дуня — это ландыш.
— Чем бы перевязать? Вы знаете, Дуня, его надо подзатянуть.
— Ну да, — сказала она заботливо. — Зайдём-ка до нас.
Она взяла меня за руку и повела к себе. Дома у неё никого не было. Против печи шкафчик со стеклянным верхом, там стояла кой-какая посуда. Герани и фикусы на подоконниках и на полу, а пол дощатый, голый, чисто вымытый, по такому полу хорошо ходить босиком. Левый угол был отделён занавеской, видно, там стояла кровать. Ещё там была скамья, старая, серо-белая, я очень люблю этот цвет старого домашнего дерева.
— Садитесь, — сказала Дуня, — я сейчас.
Она скинула свой клочковатый полушубок и оказалась в простом ситцевом платье. Она была стройная и держала торс очень прямо, как цирковая балерина. Обута она была в огромные валенки с калошами. Калоши она тоже скинула, а валенки нет. Так и ходила — ноги слона и торс юной балерины, и лицо. Она принесла какую-то тряпочку и села передо мной. Я повернулся к ней, и она стала перевязывать мне руку. Пальчики её согрелись, прикосновение их было ласковое, и русая её головка с недлинной косой, и неслыханной красоты лицо — всё это брало за душу, и славно становилось жить подле неё, как-то доверчиво и любовно.
— Вы сами московский будете? — спросила Дуня.
— Московский.
— С матерью живёте?
— Один.
— Что так?
— Она умерла.
— Ах ты… давно?
— Год уже…
— Отчего она, бедная?
— У неё болезнь была… тяжёлая… Она в больнице лежала.
— В больнице?
— Да.
— Плохо в больнице лежать…
— Это всё от людей, какие люди…
Я сам не знаю, почему мне вдруг захотелось рассказать Дуне. Хоть немного. Я сказал:
— Я один раз был у неё в больнице, раньше не пускали, а тут вызвали. Посиди, говорят, с мамой, повидайся. Я и не понял ничего, с радостью пошёл. И когда я пришёл, я пожалел. Там у них был доктор. Наглый такой, сановитый… Ему всё можно. Например, резать правду-матку в глаза. То есть такую правду, которой не надо. Терпеть не могу. Я к нему пришёл, и дожидался очереди, и случайно услышал, как он одному тихому такому парню, рабочему, говорит: «Послушайте, любезнейший»… Слышите, Дуня? «Любезнейший» — в наши дни в обращении к рабочему. Вы чувствуете, что стоит за этим словом «любезнейший»?
— За этим словом стоит, что доктор сволочь, — сказала Дуня. Я обрадовался, что она поняла, уловила, в чем дело.
Я вообще не очень-то людимый стал в последнее время, но, странное дело, я чувствовал, что говорить с Дуней можно. Вот именно — можно, она меня поймёт так, как я хочу быть понятым.
— Ну, а дальше-то что? — поторопила меня Дуня.
Я сказал:
— Так этот доктор и лепит ему в глаза: «Вот, любезнейший, должен вас огорчить, надеяться не на что, жена ваша плоха, предвижу летальный исход». Тот так и закачался, ноги подкосились, сел, воздух ловит ртом.
— Это что ж за исход такой? — спросила Дуня.
— Летальный? Это смерть. От слова Лета — река забвения. Я и дожидаться его не стал, так мне противно было. Я пошёл в палату, сидел у матери и держал её руку. И вот в какую-то минуту ей стало больно и, видно, уж очень. Лицо исказилось, и она отвернулась, чтобы я не видел. А меня насквозь пронзило…
— Как это всё тяжело и прискорбно, — грустно сказала Дуня и замолчала. Глаза у неё стали влажные, и она сказала, положив мне руку на плечо: — А батя ваш где?
Я сказал:
— Отец погиб на Хасане. Он герой.
— О господи, — сказала Дуня. — Значит, вы сирота?
Я сказал:
— Да.
Она задумалась.
— Круглый, значит, сирота. — Она посмотрела на меня каким-то новым взглядом, более близким взглядом старшего и сильнейшего. Ах, славная, бесценная Дуня. Она сказала: — Жалею я вас, нельзя сказать, как жалею! Вы сами с какого?
— С двадцать второго. А вы с какого?
— Угадайте.
— С двадцать второго.
— Что вы? Неужели я выглядываю на с двадцать второго?
Она обиделась. Вот история! Я сказал:
— Ну, с двадцать третьего.
Она сказала недовольно:
— Конечно, теперь будете перебирать по одному.
— Я не умею угадывать!
Она улыбнулась.
— Молодой ещё.
Я сказал:
— Так с какого же вы, Дуня?
Она сказала, словно желая сделать мне радостный сюрприз:
— Я с двадцать четвёртого!
— Ну да? — сказал я. — Значит, вы маленькая?
— Семнадцать годов — маленькая?
— Ну, не грудная, конечно, но всё-таки маленькая. Очень молодая…
— Самые года.
Я сказал:
— Конечно! Невеста!
— Не смейтесь!
— Нет, — сказал я, — я не смеюсь. А сватались? Только честно!
Она притворно зевнула:
— Глупости всё это. Учиться надо.
— А на кого?
— Я на учительницу хочу. Я очень понимаю маленьких ребят. Я с ними, хоть с каким, сразу как своя.
— Хорошее дело, — сказал я. — Я тоже ребят люблю, всех маленьких люблю, жеребят и щенят. Ну а ребята, конечно, всех лучше. Они воробьями пахнут.
Она засмеялась и снова глянула на меня долгим, испытующим взглядом.
— Вот вам и надо сто ребят завести своих. А вы холостой?
— Да… Я холостой…
— Что это вы как будто сомневаетесь… Может, неправда?
— Нет, нет, что вы. Я холостой.