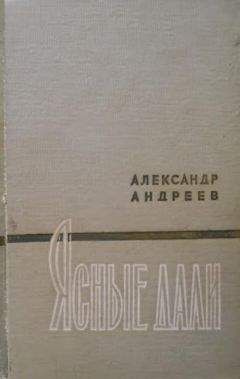— К своим пробираетесь?
Второй, стоявший под елью, кашлянул и произнес то ли осуждающе, то ли с сочувствием:
— Как много вас идет…
Я оцепенел, с минуту стоял, как бы пригвожденный этими словами. Попытался закричать, но захлебнулся, крикнул еще, и опять спазма сдавила горло, я только прошептал едва слышно, одними губами:
— Никита!.. — Споткнувшись о корень, я упал на Никиту Доброва. Он меня тоже узнал и тоже только и смог прошептать:
— Димка!..
Мы обнялись, сдавливая друг друга.
— Димка, родной мой… Жив?..
— Вот это встреча! — отметил Филипп Иванович растроганно и зашагал прочь, оставляя нас одних.
Так мы встретились с людьми одного из первых, еще малочисленных, еще неопытных, еще не совершивших ни единого боевого подвига партизанских отрядов. Должно быть, какая-то сила не выпускала меня из заколдованного круга, чтобы я мог повидаться с Никитой…
— Где Нина? — спросил я.
— Здесь, со мной!
Опять предательская, немужская слабость подкосила мне ноги. Я сел возле дерева, еще не веря Никите. Он присел рядом:
— Когда я узнал, что ее немцы угнали в Германию, то, знаешь, я, здоровый парень, потерял сознание. Потом мы сели на лошадей и — в погоню за обозом. Я или отбил бы ее, или погиб… — Он долго свертывал папиросу трясущимися пальцами, рассыпая табак, прикурил, осветив на миг свое похудевшее лицо. — Но, к счастью, мы опоздали: на дороге уже гремели выстрелы, девушек освободили без нас, они все вернулись в село. Среди них была и Нина… За это освобождение, за убитых немцев Жеребцово расплатилось сполна: его утром же и выжгли. Хорошо, что в ту ночь мы увели весь скот, вывезли хлеб, картошку, овощи.
Из темноты, куда Филипп Иванович и Мамлеев увели Щукина, Чертыханова и Васю, доносилось ленивое мычание коровы, тонкое, льстивое козье блеяние; испуганно встрепенувшись, запел петух, за ним второй, — жутковато слышать в лесу полночный петушиный крик…
— Никогда не воображал себя партизаном, а вот, видишь, пришлось стать им, — проговорил Никита. — Как все перевернулось, Дима!..
— У меня такое ощущение, Никита, будто все страдания, которые испытало человечество за многие тысячи лет, достались мне одному, легли вот сюда, в грудь. На моем теле нет поры, куда бы ненависть не приложила свои огненные ладони… Смерть не раз вставала рядом и заглядывала мне в душу своими пустыми глазами. Но отступала… Из тридцати одного человека в роте уцелело, быть может, пять — шесть. Я начинаю верить в свою звезду. Я часто вижу, как звезды, отсветив свое, падают, и думаю: вот еще чья-то голова поникла. Моя звезда где-то держится еще, светит. Позапрошлым днем мы лежали под настилом, лицом в грязь, по нашим спинам немцы стучали каблуками, проходили повозки. Я вспоминал нашу школу ФЗУ, ребят, как меня первый раз не приняли в комсомол…
Улыбка раздвинула губы Никиты, обозначилась белая полоска зубов.
— За то, что ты числился лидером дверей?
— Как все это далеко и, в сущности, мелко, Никита. Человек должен оцениваться не по речам на собраниях. Сила человеческого духа по крепости равна стали. Я в этом убедился. Народу в трудный час нужны не речи, а сталь…
— Верно, — согласился Никита, чуть подумав. — Помнишь Белинский сказал, что у всякого человека есть своя история, а в истории свои критические моменты; и о человеке можно безошибочно судить, только смотря по тому, как он действовал и каким являлся в эти моменты, когда на весах судьбы лежали его и жизнь, и честь, и счастье. И чем выше человек, тем грандиознее его история, критические моменты ужаснее, а выход из них торжественнее и поразительнее. Мы переживаем критический момент.
— Говорят, немцы Москву захватили?..
— Я тоже слышал об этом. Но не верю. Захватили они ее или нет, от этого борьба наша не ослабнет, она будет только жестче. Немцы еще не подозревают всего того, что для них готовится в тылу. Теперь каждая деревня — отряд. Скоро они, фашисты, почувствуют их силу.
— Что делает ваш отряд? — спросил я.
— Пока еще ничего не сделал, только намечаем. Трудновато с непривычки-то… Оружие у нас сгорело в сельсовете, придется доставать. На завтра наметили первую вылазку. Может быть, примете участие?
— Нет, — отказался я. — Будем пробиваться к своим…
— Ты из Москвы когда выехал? — Я понял, что Никита хочет узнать о Тоне, но прямо спросить стесняется.
— Уезжал — никого не видел, — сказал я. — Тоня при мне еще не вернулась с юга… — Я почувствовал, как плечо его толкнулось о мое плечо, успокоил: — Но она не потеряется, выберется… Соседка сказала, что заходил к нам Саня Кочевой, и почему-то тоже в военном…
— Он военный корреспондент «Комсомольской правды». Старший лейтенант. Мне случайно попалась газета с его очерком «Сражения на Минском направлении». Горячо пишет, с яростью…
— Теперь мне все понятно, — отозвался я. — Удастся ли встретиться с ним…
Никита, как бы вспомнив что-то, поспешно встал и скрылся во тьме.
Я посидел немного с закрытыми глазами, прислушиваясь к глухим стукам в спину — это билось сердце, гулко и ровно. Слышался серебряный Васин голосок. Ежик рассказывал о том, как они с Чертыхановым добывали мед. Услышав шорох шагов, я поднялся. Сердце сдвоило, остановилось, а потом учащенными толчками погнало кровь к голове, к вискам. Темнота как будто расступилась, и я увидел Нину: она шла ко мне сквозь пламя пожарищ, сквозь взрывы, сквозь беды и страдания, светлая, как сама жизнь. Я почувствовал, как от меня все отдалилось: ненависть, ожесточение, усталость, — осталось одно, большое и нетленное: любовь.
Нина, неслышно подступив, взяла мое лицо в свои ладони — ее продолговатые, сияющие счастьем глаза светились перед моими глазами, — поцеловала в губы, потом обхватила мою шею руками, тихо, с неизъяснимой нежностью прошептала:
— Милый… любимый…
Мы долго и безмолвно стояли, крепко обнявшись. Так, обнявшись, мы и тронулись среди стволов в темноту, все дальше и дальше, пока не стихли голоса партизанского табора на поляне. И здесь, под старой мохнатой елью, остановились. Нина говорила мне что-то нежное, ласковое; я целовал ее, много, сильно, горячо…
…Мы очнулись, когда на землю заструился скупой, просеянный сквозь густые, распластанные ветви ели свет. Свет усиливался с каждой минутой, и лицо ее все отчетливее выступало из сумрака, прояснились черты, такие близкие, тонкие и прекрасные. Между бровей тонкой ниточкой легла складка, нацелованный, чуть припухший рот ярко алел, длинные, стрельчатые ресницы лежали двумя полукружиями и чуть вздрагивали, роняя синеватые тени. Вот ресницы приподнялись, и теплые, радостные лучи ласково коснулись моей души. Никогда еще счастье не было так осязаемо полным и прекрасным, как сейчас. Нина тихо засмеялась.
— Многих война разлучила, а нас с тобой соединила… — Помолчав, вздохнула и прибавила с грустью: — Надолго ли? — Она рывком оторвала голову от моих колен, села. — Оставайся у нас, Дима, с нами, — тогда мы все время будем вместе…
— Нельзя мне. Я солдат Красной Армии, ее законы для меня обязательны и, пожалуй, более обязательны, потому что приказы мне дает не командир, а совесть: она строже, справедливее и беспощадней любого командира… — В темных и нежных волосах ее застряли сухие желтые иголки, я осторожно вынул их. — Я хочу, чтобы ты пошла со мной, Нина. Я поведу тебя через фронт и отправлю в Москву. Я боюсь за тебя…
Нина сомкнула брови, произнесла, глядя в сторону, сквозь стволы:
— Не надо бояться за меня. И жалеть не надо. Только глупцы и трусы достойны жалости.
Я улыбнулся: прав оказался Никита — книжечки о благородных героях сделали свое дело.
— Мы слишком много наобещали своей стране, народу, комсомолу, — проговорила она после долгого и грустного молчания. — Будем защищать социалистическое Отечество до последней капли крови!.. И в речах, и в статьях, и в спорах, и в песнях обещали. Надо честно выполнять свои обещания… Я теперь над собой не властна: получила задание работать во вражеском тылу… О Москве речи быть не может… — Она вдруг задорно вздернула точеный носик, глаза насмешливо сузились. — А помнишь, как мы катались в парке культуры на «чертовом колесе»? Как давно это было, Дима!.. А, может быть, ничего этого и не было вовсе… Парк, огни, актерская школа, экспедиции, дни рождения, вино… А теперь смоленские леса, партизаны… И мы сидим с тобой в совершенно незнакомом лесу…
— Муж и жена, — заключил я.
Нина вздрогнула, встала на колени. Лицо ее было тревожным, трагичным и прекрасным. Из широко раскрытых, немигающих глаз катились слезы.
— Милый, уцелей! — приглушенно, отчаянно крикнула она. — Пожалуйста, уцелей! Для меня… Без тебя у меня не будет жизни! Ты мне нужен живой. Живой!..
Боль в сердце была невыносимо острой и мучительной. Глазам стало горячо от слез. Мы стояли на коленях в глухом далеком лесу, у мирно пахнущей смолой ели, смотрели друг на друга и плакали, не стесняясь своих слез. Мы плакали оттого, что приближалась минута расставания, быть может, навсегда, и что не разлучаться нам нельзя, что любовь наша висит на волоске и ее может оборвать любая пуля, даже нечаянная, даже шальная, — их много, они тонко, погибельно свистят над головой. Как жаль, что любовь часто является именно в тот момент, когда у людей нет для нее ни места, ни времени, ни сил, а до этого момента ее все дальше отодвигали глупые ссоры, обиды, недоразумения, ревность…