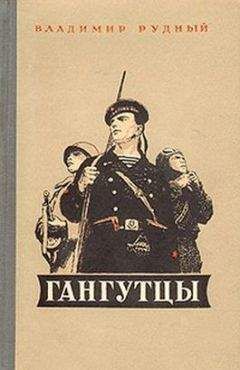Вяйне Кукконен очнулся от полученных тумаков лишь в штабе батальона. Первое боевое крещение не так уж плохо кончилось. Фельдфебель, если он жив, а если эта собака подохла, тогда второй солдат — они подтвердят, что Кукконен не сам сдался в плен, а его захватили в бою и нет оснований преследовать его семью. Теперь только бы выжить до конца войны и вернуться в Суоми целым и невредимым…
Кукконен на первом же допросе подтвердил, что в «Ударной группе Ханко» происходит смена частей. Маннергейм потерял надежду взять полуостров штурмом. Он приказал наиболее боеспособные полки перебросить под Ленинград, а сюда поставить пожилых резервистов.
— Слышите, товарищи? — оживился капитан Сукач, услыхав это признание. — Маннергейм решил взять нас измором.
Репнин спросил:
— Интересно бы, товарищ капитан, узнать у него: почему же они все-таки не штурмуют полуостров в последнее время? Почему вы так боитесь Гангута? — обратился Репнин к пленному, вспомнив, что тот знает русский язык.
— Кому охота идти на верную смерть, — ответил Кукконен. — Когда я пришел на фронт, меня сразу предупредили другие солдаты, что на Ханко такие укрепления, каких еще не видел мир.
— Неужели? — искренне удивился Репнин.
— Да, да, я вам правду говорю. Среди солдат ходит слух, что линия вашего генерала Репнина мощна, как линия Маннергейма на Карельском перешейке!
Все рассмеялись. Репнин смутился.
— Мало ваши солдаты знают про все наши линии. У нас тут тысячи таких линий, как Репнина. А если по всему советско-германскому фронту посчитать, так таких линий миллионы…
Вяйне Кукконен не понял, почему так смеялись русские солдаты и офицеры. Перед ним разложили карту боевого участка, и Кукконен стал наносить на нее все, чем интересовались русские разведчики…
* * *
Щербаковский и его товарищи донесли Алешу до командного пункта роты и передали на попечение дежурных медсестер.
Алешу уложили на носилки в санитарной машине. В темном кузове суетилась медсестра, совсем еще девочка.
Щербаковский беспокойно следил за ней: «Куда такой девочке справиться!» Ему сейчас все казалось неладным: и сестра молода, и машина тряская, ненадежная, и шофер — растяпа, без году неделя права получил, заедет, чего доброго, в ухаб…
— С-ам поведу, — Щербаковский отстранил шофера от машины. — С-адись в кузов пассажиром. Я п-ервого класса шофер.
— Да вы что, товарищ, в своем уме? — возмутилась Катя, выскакивая из машины и подбегая к кабине. — Не задерживайте. Раненого надо срочно доставить в госпиталь.
Это для Щербаковского был самый убедительный аргумент.
— Ну, смо-отри, шофер! Ты за него г-оловой отвечаешь. Если что, с-амого тебя в б-баранку скручу!.. И ты, сестрица, б-ереги орленка!
— Орленка? — голос Кати дрогнул. — Как его фамилия?
— Г-орденко Алексей. Самый храбрый разведчик из роты мичмана Щербаковского, отряда к-апитана Гранина. П-понятно, чью жизнь доверяем?
— Садитесь, товарищи, садитесь в машину, до госпиталя доедем, — всполошилась Катя. — Вы тут в кабине сядьте, товарищ мичман, рядом с шофером. А я в кузове поеду. Я лучше в кузове буду. Вам же на Утиный…
В кабину втиснулись Щербаковский и Богданыч. Остальные устроились кто на крыльях возле мотора, кто на подножках, и машина осторожно, не зажигая света, поехала к госпиталю.
В госпитале Щербаковский перечислил дежурному врачу все заслуги раненого, настойчиво требуя гарантий и ответа: когда Горденко вернется в отряд?
Врач заверил, что весь госпиталь будет бороться за жизнь Алеши. Но когда он вернется в строй, ответить трудно, потому что всех тяжело раненных приказано отправить в Кронштадт; в порту стоят тральщики, вот-вот они пойдут в Кронштадт, пусть мичман не мешает врачам, может быть, они успеют отправить Горденко с этими тральщиками…
— Вы мне п-про т-ральцы не объясняйте! — зашумел Иван Петрович. — Мне Г-орденко тут нужен, ж-ивой и здоровый. А то я самому К-оровину скажу, А-аркадий Сергеич не п-озволит орленка с Гангута выпроваживать!..
Щербаковский не знал в лицо знаменитого ханковского хирурга Коровина и потому, не обращая внимания на вышедшего в дежурку худощавого дядьку в серой, из грубого холста шапочке и в таком же халате, продолжал разоряться и требовать немедленного ответа: когда медицина вернет Алешу в строй?!
А дядька этот, хмуро взглянув на него, сказал:
— Шуметь, Иван Петрович, не надо, а Коровину жаловаться не придется. Коровин что сможет, то для орленка сделает.
Коровин быстро ушел, оставив в дежурке растерянного мичмана.
Все же Щербаковский успокоился: Коровин зря слова не обронит. И по имени-отчеству мичмана уважил, даром, что в медицине — полковник!
Рана была тяжелая. Прибежала бледная, заплаканная Катя и сказала, что Алешу отнесли в операционную.
Иван Петрович и его матросы ждали исхода операции.
А потом опять прибежала заплаканная Катя, в которой Иван Петрович давно узнал ту девушку с фотокарточки: «Самому отважному». Матросы окружили ее, боясь спросить, что с Алешей.
— Аркадий Сергеевич говорит, что он жить будет, — сказала Катя. — Операция прошла хорошо, только трудно перенести вторую рану подряд. Очень тяжело… — И расплакалась.
Щербаковский не любил слез.
— Т-ак жить будет? — сердясь, повторил он.
— В Кронштадт сегодня отправят, — сказала Катя. — И я с ним поеду. Эвакуируемых буду сопровождать…
— Сп-асибо, девушка, — растрогался Щербаковский и, желая утешить Катю, добавил: — Он вашу к-арточку т-рижды заслужил…
* * *
Когда Катя привезла Алешу в порт, там уже скопилось много машин и людей. На причалах творилось что-то непонятное. С тральщиков на берег санитары несли раненых, кого на носилках, кого в обнимку; нещадно ругаясь, сползали по сходням инвалиды; по другим сходням шел встречный поток вооруженных винтовками и пулеметами бойцов в новеньком, точно на парад выданном, обмундировании.
Катя искала знакомых, но все были заняты и чем-то обозлены, она увидела Любу с малышом на руках, бросилась к ней. Люба торопилась выбраться из толпы за обгоревшие, побитые снарядами пакгаузы, она сказала, что перед самым отходом кораблей всем пассажирам было приказано сойти на берег, вместо раненых грузят какую-то воинскую часть и оружие, что случилось — она не знает, но время утреннее, того и гляди финны начнут лупить по гавани, она ждать тут не будет, поищет оказии в дом отдыха на Утиный мыс.
Люба отказалась даже в Катиной машине посидеть, она ушла, и Катя, проникшись ее тревогой, бросилась к причалам искать кого-либо из медицинского начальства.
На причале стоял генерал Кабанов, обычно спокойный, а сейчас до того сердитый, что Катя не решилась к нему подойти.
Она вернулась в машину, где спал в беспамятстве ее Алеша, и попросила шофера отъехать в сторонку, к побитым пакгаузам, потому что верила — снаряд второй раз в одно и то же место не падает.
Ночью Кабанов получил радиограмму командующего: на тральщики погрузить боеспособный батальон и тут же отправить конвой в Кронштадт. Он немедленно попросил у Военного совета разрешения оставить на борту раненых, но получил лаконичный фитиль: «Прежде чем командовать, научитесь подчиняться».
Горько военному человеку прочесть такое, горько разгружать уже устроенных, успокоенных раненых да инвалидов, травмировать и без того травмированных людей. Но еще горше ему, человеку, отвечающему за этот участок фронта и гарнизон, отдавать батальон, ослабляя оборону.
Конечно, противник тоже ослабил свои силы против Гангута, но за ним — тыл, своя земля, резервы, армия, которую в любой час можно передислоцировать, если он начнет штурм. А между Гангутом и его тылом, тылом, где тоже фронт, тяжелейший фронт, между ними сотни миль минных полей.
Смена? Не может сейчас быть никакой смены: от командиров тральщиков Кабанов узнал такое, чего не узнаешь ни из какой сводки, — «Ижорская республика», как называют узкую полоску берега западнее Ораниенбаума, полоска, которую Сергей Иванович излазил вдоль и поперек, командуя ижорским укрепленным сектором, сейчас для жизни Ленинграда, Кронштадта, фортов и всего флота — важнее этого полуострова.
Может быть, решено снять с Ханко гарнизон?.. Но тогда его бы как-то известили, это же настолько сложное дело — уйти скрытно, оторваться от противника так, чтобы он не занял эту землю на твоих плечах, что нужна продуманная до мелочей подготовка. Да и сколько надо кораблей, если тральщики заберут пятьсот бойцов, а останется еще в пятьдесят раз больше, и на Осмуссааре тысяча человек. Матросы так настроены, что заикнись кто об уходе гарнизона с полуострова, его потянут, как предателя, в Особый отдел. Но некоторые командиры понимают, что означает для Гангута зима. На приход кораблей за гарнизоном никто, конечно, и не рассчитывает: газету читают все, знают, что происходит на фронте. А вот проектов и предложений рейда через всю Финляндию — хоть отбавляй. «Пошьем бурки, станем на лыжи и ударим!» — сказал на днях, хоть и шутя, Арсений Львович. Конечно, и Расскин понимает, что это немыслимо, если уж доведется пробиваться — то через залив, под Таллин, и там — в леса, в партизаны, черт побери. Но и для этого надо гарнизон прежде всего освободить от тех, кто не сможет драться…