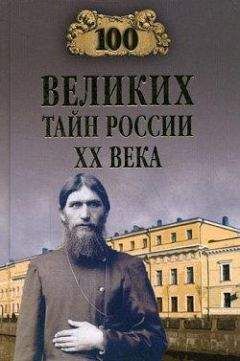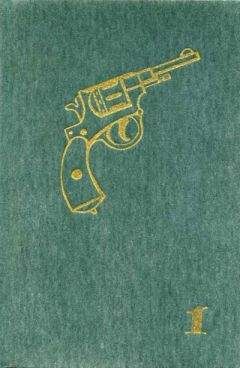Для Поэта не стоял вопрос о том, принять или не принять совершившуюся революцию. Он выстрадал ее вместе с народом, выстрадал в душе, в стихах, которые тоже можно считать партийной работой.
Он уже не служил в армии с первого августа. Был снят со всех видов довольствия как негодный к службе. Но счел себя мобилизованным революцией. Он сам о себе писал: «Пошел в Смольный. Работал. Все, что приходилось…»
* * *
Пожилой, заросший бородой солдат в мятой шинели бережно расправил на заскорузлой ладони листок сероватой бумаги военного времени. Усердно шевеля губами — какая уж у него грамота! — по складам прочел: «К гражданам России!»
Такие на первый взгляд простые слова воззвания на еще сыром, прямо из типографии, листке словно звенели призывным набатом. Привычно закинув винтовку за плечо, он бережно сложил листок, убрав его за подкладку потертой солдатской папахи с красной ленточкой вместо царской кокарды, поближе к тщательно свернутым Декретам о мире и о земле.
Прав, ох как прав был тот парень в окопах, которого отдали под суд за избиение фельдфебеля Карманова, издевавшегося над солдатами. Слышно было, сбежал он от суда-то. Может, приведется еще встретиться, поговорить. Жив ли?
* * *
Федор Греков был жив. Он сидел в шумной, прокуренной насквозь комнате Смольного перед устало щурившим глаза товарищем из ЦК РКП(б)…
— Вот что, Федор. Тебе, как проверенному и стойкому партийцу, будет ответственное задание.
— Что надо делать?
— Будешь помогать бороться с контрреволюцией.
— Смогу ли?
— Надо. Сейчас каждый человек на счету. Все мы не родились министрами, но теперь наша власть, пролетарская, и будем учиться ее защищать от всех врагов — и тайных, и явных…
Через час Федор Греков уже поступил в распоряжение коменданта Петроградского военно-революционного комитета — худощавого, высокого человека в длинной солдатской шинели и кожаной фуражке.
Человек говорил с заметным акцентом, особенно когда волновался, много курил, разговаривая, смотрел прямо и требовательно в глаза собеседников. Его звали Феликс Эдмундович Дзержинский…
Бывший штабс-капитан Воронцов, пристроив поудобнее искалеченную ногу на стуле, пододвинутом к кровати, отсиживался в своей комнате в Москве, на Ордынке. За темными окнами где-то постреливали. При каждом доносившемся из-за плотно завешенного окна звуке выстрела Андрей Воронцов болезненно морщился.
Снова стреляют! Русские в русских. Не хочется знать ни правых, ни виноватых в этой непонятной для него сумятице политической жизни. Придется все же выбирать? А он не желает! Не желает, и все! Шел бы к черту каждый, кто хочет стрелять, хватит, он уже настрелялся, пусть теперь стреляют без него. И те, и другие. Он не палач своему народу, а в бывших товарищей по офицерскому корпусу он тоже целиться не станет.
Да и какой из него вояка — хромой, с палкой, без которой он не может сделать и шагу, с простреленными грудью и плечом, а раны так ноют. Или это ноет душа, оттого, что те, за окнами, не могут понять простой истины — нельзя русским стрелять в русских!
Воронцов опустил вниз руку, нашарил початую бутылку самогона, которую выменял на толкучем рынке, поднес к губам, глотнул обжигающей жидкости. Тыльной стороной ладони отер губы. Почувствовал колющую щетину на подбородке.
Сколько он уже безвылазно сидит дома? День, два, неделю? Время смешалось. Но он будет сидеть, пока не перестанут стрелять. Пока не перестанут…
* * *
Анатолий Черников, часто моргая красными, слезящимися от недосыпания глазами, вычитывал принесенные из типографии газетные полосы. На еду и сон времени не хватало — прямо за работой прихлебывал из стакана остывший морковный чай и бросал в рот крошки, которые отщипывал от скудной хлебной пайки.
Какое время, какие люди! Гиганты! Нет, он рад, он счастлив, что застрял в Петрограде, что судьба свела его с такими людьми. Когда-нибудь потом, как только появится свободное время, он обязательно напишет роман об этих людях, чтобы мир знал правду величайшего события в истории человечества, которое произошло в России. В его России! Правду о великой революции!
— Товарищ Черников! — подошедший к его столу матрос подал ворох новых листов. — Быстрее, пожалуйста, очень просят.
— Да-да, я сейчас, сейчас…
И остро отточенный синий карандаш, зажатый тонкими пальцами Черникова, снова заскользил по строкам будущего номера «Известий»:
«От комиссара Петроградского градоначальства.
Предлагаю служащим канцелярии Петроградского градоначальства явиться на работу. Не явившиеся в течение второго ноября будут считаться уволенными…
В ноябре месяце по основной карточке будут отпущены продукты по следующим нормам:
Хлеб — 1/3 фунта в день.
Крупа — 1 фунт по первым двум крупяным купонам.
Сахар — 2 фунта в месяц по 1 ф. на каждый купон.
Яйца будут отпущены лишь для детей.
Чай — 1/4 фунта на ноябрьский купон. Выдача чая по октябрьским купонам отменяется…
Народный суд, или Военно-революционный суд Выборгской стороны есть первая практическая попытка организации не казенного, а народного суда, предпринятая Выборгским районным советом раб. и солдатских депутатов. Все дела решаются публично, при активном участии гостей. Суд преследует задачи борьбы с воровством, пьянством, хулиганством, спекуляцией и т. п. и старается моральным воздействием исправить неуравновешенные преступные элементы. Можно отметить еще как меру наказания — это снимание с учета в заводе, исключение из рабочей среды…
ВСЕМ ИСТИННЫМ ГРАЖДАНАМ
Военно-революционный комитет постановляет: хищники, мародеры, спекулянты объявляются врагами народа…
Украинский военно-революционный штаб в Петрограде обратился к нам с просьбой дать ему возможность выбрать из Эрмитажа и Преображенского гвардейского собора хранящиеся там украшения, национальные реликвии (знамена, бунчуки, грамоты и пр.) и возвратить их Украине.
Революционное правительство республики Российской торжественно возвращает Украине ее национальные реликвии, несправедливо отобранные у нее грубой рукой Екатерины II…
В бюро печати при Совете народных комиссаров требуются репортеры на постоянное жалование. Необходимы партийные рекомендации. Смольный институт, 2‑й этаж, комн. 49…»
* * *
В камине жгли бумаги. Листы, исписанные мелким и крупным почерком, отпечатанные на машинке, исчерканные и почти чистые, одинаково сжимались, охваченные огнем, в какое-то неуловимое мгновение коробились, темнели и, ярко вспыхнув, оставляли после себя ломкий, похожий на черный муар пепел. А пламя жадно охватывало, ненасытно пожирало все новые и новые пачки, которые подбрасывали, вороша горящие листы бумаги медной кочергой с витой ручкой, молчаливые, одетые в темные строгие костюмы люди разных возрастов.
Все они были озабочены и не скрывали этого. Нет, никто не произносил ни слова, боясь потревожить хозяина кабинета, просматривавшего бумаги у своего стола перед тем, как отдать их на сожжение, — он делал это быстро, не выпуская изо рта дымящейся сигары.
Озабоченность одетых в темное людей была видна в поспешности, искоса брошенных на хозяина кабинета встревоженных взглядах, торопливом шарканье кочерги по вороху горящих бумаг.
За темным окном вразнобой грохнуло несколько винтовочных выстрелов. Один из молчаливых людей неслышно вышел, плотно притворив за собой дверь. Хозяин кабинета оторвался от бумаг, бросил недокуренную сигару в пепельницу и подошел к окну, немного раздвинув тяжелые шторы, всмотрелся сквозь стекло в холодную темень ноябрьского вечера.
На углу, около круглой афишной тумбы, горел небольшой костер — грелись солдаты в лохматых папахах, несколько матросов, какие-то штатские в бобриковых пальто и шапках пирожком. Пламя костра бросало отблеск на штыки солдатских винтовок, на красные банты на груди вооруженных матросов и штатских.
Хозяин кабинета досадливо задернул штору и вернулся к столу. Скоро, очень скоро он будет вспоминать все это как кошмарный сон: окунется в привычную, мило-размеренную жизнь, где не отрекаются от престолов цари, не встают во главе временных правительств переодевающиеся в женское платье бездарные адвокаты, готовые бросить свою страну на произвол большевиков. Боже, если бы ему года два назад сказали о том, что произойдет в России, он бы только рассмеялся в ответ.
Да, царь изжил себя. Не только царь, но и самодержавие как система правления. Кто спорит, это так, но чтобы к власти пришли ЭТИ? Слишком, да-да, слишком! Просто новая французская революция, да и только. Даже, пожалуй, это будет пострашнее, чем в восемнадцатом веке. Остается только ждать и надеяться на недолговечность власти большевиков. Хотя… каких только кунштюков не выкидывала история.