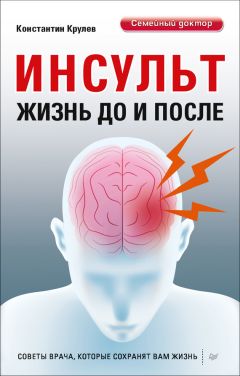– У дяди Левы еще медаль «За отвагу» есть, – сказал мальчик, недовольный, что отец, не вспомнив об этой медали, как бы поставил дядю Леву на одну доску с Лопатиным.
– Пока бог милует наше семейство! – сказал режиссер. – У старшего брата должность не самая рискованная, а Левка – танкист!
– А вы у танкистов бывали? – спросил мальчик.
– Мало, – сказал Лопатин.
У танкистов он действительно бывал мало, но, как горят танки, видел, и видел близко.
– Роман, доставай свой тюфяк. Твое время кончилось!
Мальчик нехотя встал с тахты.
– А я пойду, – сказал Лопатин.
– Наоборот, предлагаю заночевать, а утром прямо от нас – на студию, – сказал режиссер.
Лопатин посмотрел на него с недоумением. Четвертому человеку здесь было явно не на что лечь, разве что на стол.
– Женька скоро на свое дежурство уйдет. А мы ляжем с вами на тахте, валетом, – объяснил режиссер.
Лопатину захотелось остаться здесь, в этой обжитой теплой комнатке, но он вспомнил о другом, неблагополучном доме, в котором ночевал вчера и в который нельзя было не вернуться.
– Нет, я пойду, – сказал Лопатин. – Я обещал Вячеславу Викторовичу, он будет тревожиться.
– Тогда одевайтесь, – сказала жена режиссера. – Пойдем вместе на трамвай. Мне до вокзала, а вам на четыре остановки раньше.
Она надела поверх лыжного костюма толстую вязаную фуфайку, поверх фуфайки – солдатский ватник и, заправляя волосы под ушанку, улыбнулась:
– Никак не лезут! Придется стричься, – и, быстро поцеловав уже улегшегося на раскладушку сына, вышла вместе с Лопатиным. – Я возьму вас под руку, ладно?
А когда прошли вдоль дувалов молча шагов сто, вдруг крепко прихватила пальцами руку Лопатина и спросила:
– Вы правда мало бывали у танкистов?
– Правда. Сначала их самих было мало. Потом как-то все не выходило. А потом Сталинград – там держались не танками. Почему вы спросили?
– Психую из-за брата… Позавчера у нас из карантина брали малыша. Вдруг, чудом, нашлись отец и мать. Отец танкист; после госпиталя один глаз цел, а другой, и все остальное, и лицо, и шея такие, что нет сил смотреть. Он к ребенку, а ребенок в ужасе от него! Ромка радуется – орден, орден! Илья ему вторит. А у меня в глазах это лицо! Хочется сказать им: да помолчите вы, не говорите о нем, не сглазьте! А сказать нельзя!
– Да, сказать нельзя. – Лопатин снова вспомнил, как горят танки, и несколько секунд стоял и молчал.
– Пойдемте! Ну, что вы стали? О чем вы думаете? У вас-то у самого ничего плохого не случилось? – снова беря его под локоть, спросила женщина. Спросила так, словно могла помочь. – У вас-то кто на фронте?
– Кроме меня, никого. Если вы о родственниках. А друзья – почти все.
Они молча прошли еще сотню шагов.
– Евгения Петровна!
– Да? Что? – не сразу ответила женщина.
– Вот вы второй год на этом эвакопункте. Скажите, много детей по дороге сюда, до Ташкента, не выдерживают…
– Умирают, да?
– Да.
– Некоторые умирают. А другие – как без вести пропавшие. Про тех, кого больными снимают по дороге, на станциях, иногда подолгу не знаем, живы или умерли…
– А те, что сюда приезжают, в каком виде?
– Кто приезжает, почти всех ставим на ноги. Знаете, кого больше всех жаль, каких детей? Тех, кого уже во второй раз с места сорвали, а иногда и в третий. Сначала из-подо Львова – под Ростов. Оттуда на Кавказ, потом сюда! Наверное, надо было бы сразу сюда, но ведь кто же все знал заранее? Эти дети какие-то совсем себя потерявшие, в их голове все спуталось. У таких организм хуже борется с болезнями…
Они вышли к трамваю. Лопатину казалось, что в такой поздний час трамваи в Ташкенте пустые, как это бывало до войны.
Но они шли, наоборот, битком набитые: люди ехали в ночную смену на военные заводы. Первый трамвай пришлось пропустить: негде было даже висеть. На второй все-таки сели и стали проталкиваться вперед. Но их растащило, и Лопатин уже не видел за головами и спинами маленькую, потерявшуюся среди них женщину, только слышал ее громкий заботливый голос, объяснявший, где ему надо слезать и куда идти.
Оборвав в давке два крючка полушубка, он выбрался из вагона на остановку позже, чем надо, и пошел обратно вдоль трамвайных путей.
Вячеслав Викторович был не один. Напротив него, лицом к двери, сидела Ксения.
– А я тебя уже два часа жду! Мешаю Вячеславу Викторовичу работать, – едва Лопатин вошел, сказала она и пошла ему навстречу, знакомым жестом полураскрыв руки.
Он поцеловал ее, кажется впервые в жизни равнодушно, и сел за стол рядом с нею.
Вячеслав Викторович встал и вышел в соседнюю комнату.
– Как ты себя чувствуешь? Ты что-то похудел и скверно выглядишь, – сказала Ксения таким тоном, словно ему ничего не оставалось делать без нее, как только худеть или скверно выглядеть.
Должно быть, на лице Лопатина промелькнуло раздражение, и Ксения заторопилась объяснить, зачем она пришла.
– Мне нужно было встретить тебя именно сегодня, потому что ты должен завтра у нас пообедать. Ты должен познакомиться с Евгением Алексеевичем и увидеть, как мы здесь живем.
Ему непонятно было, почему он должен идти к ним обедать, и знакомиться с ее Евгением Алексеевичем, и смотреть, как они живут.
– Я не могу завтра у тебя обедать, – сказал он.
– Почему?
– Буду занят на киностудии до самого вечера.
– Тогда поужинаешь. Мы недалеко. Все равно ты придешь сюда ночевать; зайдешь перед этим к нам и поужинаешь.
Лопатин молчал. С самого начала было глупо говорить ей, что он не сможет обедать, потому что занят. А теперь неизвестно, что говорить.
– Хорошо, я приду прямо с киностудии, в половине десятого – в десять.
Он вынул из кармана гимнастерки карандаш и записную книжку, открыл на чистом листе и положил перед Ксенией.
– Напиши адрес.
Ксения написала адрес и, отдав книжку, сидела и молчала.
Наверно, ждала, что он будет отказываться, и приготовилась объяснять ему, как она хорошо все придумала и почему он не смеет этого портить. А теперь не знала, что говорить. Ничего другого не было приготовлено.
Он тоже безжалостно молчал. Пусть сама говорит, если хочет.
– У нас одна комната, но гораздо теплее, чем здесь, у него, – наконец сказала Ксения.
Он ничего не ответил, встал и снял с гвоздя свой полушубок, чтоб накинуть ей на плечи.
– Не надо, мне пора идти. – Она поднялась.
Вячеслав Викторович вышел из комнаты матери и, оценив обстановку, взял с тахты шубу Ксении и подал ей.
Лопатин стал надевать полушубок. Взглянув на него и поняв, что ему не хочется провожать свою бывшую жену, Вячеслав пришел на выручку.
– Не одевайся, я сам провожу Ксению. Если через проходной двор, то это совсем рядом, я знаю, а ты на обратном пути запутаешься!
Он надел пальто и старую, вытертую шапку с длинными ушами, которую Лопатин когда-то привез ему из Заполярья, и, пропустив вперед Ксению, вышел.
На этот раз обошлось без объятий. Обидевшись, что Лопатин так легко согласился не провожать ее, Ксения только протянула ему на прощание руку.
«Интересно, пригласила она его на завтра? – оставшись один в комнате, подумал Лопатин о Вячеславе. – Если пригласила – будет проще. А может, и не пригласила. До войны было бы странно – вот так прийти, меня пригласить, а его – нет. А сейчас, здесь, в эвакуации, наверное, ничего странного – лишний рот!
Вячеслав Викторович вернулся быстро, не прошло и десяти минут.
– Жаловалась мне на тебя, – сказал он, стаскивая пальто и шапку.
– Так и знал.
– И на что жаловалась, знаешь?
– Тоже знаю. Жаловалась, что сам же оттолкнул ее от себя, а теперь, когда она, несмотря на все, стремится сохранить хорошие отношения, не выражаю достаточных восторгов.
– Почти так. Ты умный!
– Вряд ли. Просто знаю ее как свои пять пальцев, но для этого большого ума не требуется.
– Невезучий ты, – сказал Вячеслав Викторович.
– Наоборот, везучий, – сказал Лопатин. – Лучше поздно, чем никогда.
На следующий день Лопатин закончил работу на студии раньше, чем думал. В начале девятого, проработав десять часов подряд, режиссер сказал:
– До закладки дошли! – и вынул из сценария крышку от папиросной коробки, про которую утром сказал: пока не дойдем до нее, не встанем. – Перевыполнять не будем, а то завтра недовыполним.
Так Лопатин оказался у Ксении в девять часов – раньше, чем думал.
Ксения открыла после нескольких звонков. Она была в надетом поверх платья халате.
– Проходи в нашу комнату, – сказала она и распахнула первую из трех выходивших в прихожую дверей. – Я сейчас…
Она вышла, а он стал не спеша раздеваться, с наслаждением чувствуя, что в этой квартире топят.
По стенам длинной прихожей, всюду – и над вешалкой, и над дверьми, и в простенках – висели акварели. При слабенькой лампочке было не разобрать, какие это акварели – хорошие или плохие, но все здешние, южные, с барханами, с саксаулом, с весенней, покрытой маками степью, с цветущим урюком.