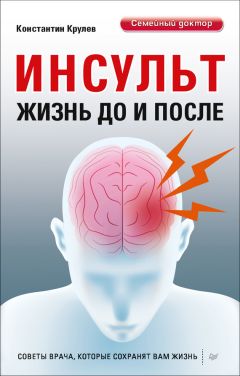Она протестующе воздела руки.
«Ну как ты мог обо мне так подумать?» – говорил этот жест, хорошо знакомый и превосходно отработанный, особенно в платье без рукавов.
– А раз не так, то больше и разговору об этом нет! – сказал Лопатин, так и не дав ей сопроводить жест словами. – Теперь, когда мы все с тобой выяснили, обещаю, что весь вечер буду хорошим.
Однако он слишком рано дал это шутливое обещание. Прежде чем стать хорошим, пришлось еще раз побыть плохим.
Ксения вдруг стала у него допытываться, как хоронили в Москве внезапно умершую Гелю и почему Лопатин, не жаловавший Гелю, оказался на ее похоронах. Ей написала об этом событии одна из тех московских баб-бабарих, которые бестолково топтались рядом с Лопатиным, пока он ругался с так и не дорывшими вовремя могилу пьяницами, ругался, вспоминая, как год назад проклинал ему этих могильщиков редактор армейской газеты, только не на этом, Даниловском, кладбище, а на другом – Ваганьковском.
Одна из баб-бабарих, когда наконец дорыли могилу, опустили в нее гроб и Лопатин бросил на крышку в изголовье мерзлый комок земли, вдруг вскрикнула: «Ах, не надо туда, где лицо, ей больно!» И Лопатин сейчас со злостью подумал, что, наверно, эта самая дурища и описала потом Ксении похороны.
– Мне написали, что ты у нее даже в больнице был перед смертью. – На лице Ксении выразилось суетное любопытство, о причинах которого он догадывался.
Он никогда не любил крашеную и прокуренную женщину, которая паслась в их доме во время его отъездов, а порой портила и дни приездов, и смутно подозревал, что она бывала наперсницей Ксении в периоды ее увлечений. Он не испытывал благодарности за тот приступ откровенности, в котором Геля когда-то, в декабре сорок первого, вдруг выложила ему все, что думала о его жене. Но когда приехал после Сталинграда и застал в редакции принесенную какой-то санитаркой записку от этой женщины с просьбой зайти к ней в больницу, где она «понемножку помирает», – пошел. Считал, что люди не шутят такими вещами, что, наверно, так оно и есть. И не ошибся. Записка прождала его больше недели, и, когда он пришел в больницу, санитарка, та самая, что относила записку, шепотом у двери в палату сказала, что Ангелина Георгиевна не жилец на свете, у нее рак – через день-два кончится.
Войдя в палату, он увидел ее, с отросшими на целый вершок от корней седыми волосами и неузнаваемо, как щепку, исхудавшую.
Может быть, десять дней назад, когда писала записку, она что-то хотела сказать ему. Зачем иначе было писать? Но теперь уже ничего сказать не могла. Поглядела на него не то виноватыми, не то удивленными умирающими глазами – уже не думала, что он может прийти, – прошептала что-то бессвязное, чего он так и не понял, и снова впала в забытье. Наверное, ей делали обезболивающие уколы.
Он постоял и ушел. А через два дня та же самая санитарка, решившая, что, раз он приходил в больницу, значит, он близкий покойнице человек, разыскала его в редакции и сказала, что Ангелина Георгиевна преставилась нынче утром и надо ее забрать и похоронить.
Он узнал в редакции у сведущих людей, как это делается, сказал им, что умерла его родственница – иначе было неловко просить о помощи, – и ему помогли сделать все, что требовалось. Достать гроб, грузовик и вручить кому следовало соответствующую мзду.
А потом было кладбище и три пришедшие туда, кроме него, незнакомые ему московские интеллигентные старухи, которым он по глупости сказал, что был у покойной в больнице. И вот – результат! Этот никому не нужный разговор с Ксенией.
– Удивляюсь, как ты все-таки к ней поехал? Ты же так не любил ее!
– При чем тут любил, не любил? – сердито сказал Лопатин. – Написала, что умирает, вот и поехал.
– А почему она тебе написала? – не унималась Ксения. – Чего она хотела, что она тебе сказала?
– Не знаю, почему написала, – сказал он. – Был по твоей милости знаком с ней, вот и вспомнила. Умирала одна, как собака, поэтому и написала. Чего тут непонятного?
– Зачем ты так грубо о ней?
– Я не грубо. А ты не суетись. Человек умер, а ты суетишься. – Лопатин посмотрел своей бывшей жене прямо в глаза и зло добавил: – Ничего она мне про тебя перед смертью не сказала, напрасно суетишься.
– А что она могла тебе обо мне сказать? – с вызовом спросила Ксения.
– А раз нечего было сказать, чего ты суетишься? – повторил он все так же зло.
– И все-таки не знаю, зачем ты к ней поехал, – упрямо сказала она, все еще не в состоянии расстаться с продолжавшей тревожить ее мыслью. – Наверно, я тебя никогда до конца не понимала.
– Что правда, то правда, – угрюмо сказал Лопатин.
После нелепого разговора о покойнице ему захотелось встать и уйти. И может, он и сделал бы это, если б не вдруг раздавшийся в дверях женский голос:
– Ксения! Требуется твоя помощь.
Он оглянулся и увидел в дверях молодое женское лицо, показавшееся ему знакомым.
Ксения сорвалась с места и побежала к двери.
– Сейчас, сейчас, извини, пожалуйста.
Она была рада и этому голосу, и возможности улизнуть из комнаты. Раньше, пока Лопатин был ее мужем, она, попав в тупик и не зная, что говорить дальше, начинала или плакать, или плохо себя чувствовать. Но теперь, в ее новом положении, и то и другое было бессмысленно.
Лопатин с усмешкой подумал об этом, когда за нею закрылась дверь. И в этой простой мысли была частица радовавшего его чувства освобождения от прошлого.
Через минуту в комнату вошла женщина, позвавшая Ксению. Вошла на высоких каблуках быстрой походкой. И Лопатин почему-то, неизвестно почему, сразу заметил эту ее особенную, быструю походку. У нее были чуть-чуть широкие для женщины плечи, задорно посаженная голова с короткой мужской стрижкой и скуластое, словно заранее чему-то смеющееся лицо.
Теперь, когда она не заглянула, а вошла, Лопатин узнал ее.
Это была та самая женщина, которая стояла и курила у окна в поезде.
– Здравствуйте, – она подошла к поднявшемуся ей навстречу Лопатину. – Вы Василий Николаевич, а я Нина Николаевна. Можно сокращенно – Ника. Ксения сказала, чтобы я посидела с вами или постояла, если вы не хотите сидеть.
Лопатин отметил про себя, что Ксению здесь звали Ксенией, а не Сюней. Ее новый муж сделал то, чего он так и не смог сделать, – заставил расстаться с этим кошачьим именем – Сюня.
– Я вас почему-то не сразу узнал, – сказал Лопатин, – хотя в поезде неприлично пялился на вас.
– Постриглась после приезда, наверно, поэтому. А я вас узнала раньше, чем вы пришли. По карточке, которая у Ксении. Хотя вы на ней в штатском и моложе, но все равно узнала того майора, с которым мы глазели друг на друга в вагоне.
– Я-то понятно. А вы-то чего?
– Были причины. А сегодня сама напросилась к Ксении, потому что захотела с вами познакомиться, и приволокла свой пай. Теперь почти все так друг к другу ходят. Курицу – правда, очень худую.
Она смешно сморщила нос и улыбнулась.
– А с чего вам вдруг вздумалось со мной знакомиться? – спросил Лопатин тем бесцеремонно дерзким тоном, который иногда брал в разговорах с сознающими свою красоту и самоуверенными женщинами. Этот тон как бы предупреждал: да, знаю – не нравлюсь и вряд ли могу понравиться вам; но как раз поэтому остерегайтесь говорить при мне глупости или пошлости – может достаться на орехи!
– Вздумала с вами познакомиться, потому что прочла ваши корреспонденции из Сталинграда. А потом Ксения, держа в руках вашу карточку, так долго объясняла мне, почему она вас бросила, хотя вы и храбрый, и умный, и вообще предел совершенства, что я так ничего и не поняла. А я люблю все понимать.
– А чего тут понимать? Надоел, вот и бросила. Что, не бывает, что ли?
Наверно, женщина, сказав «бросила», ждала, что он возразит.
Но он не возразил.
– «Брошена» – придуманное слово. Разве я цветок или письмо?» – насмешливо, нараспев, процитировала она. – Кстати, Ахматова сейчас здесь, у нас в Ташкенте.
– Уже наслышан об этом, – сказал Лопатин. – И стихи эти читал, когда мне было столько, сколько вам.
– Вряд ли. Мне двадцать девять. Даже двадцать девять и три четверти, так что считайте, уже тридцать!
– Тогда, стало быть, на несколько лет раньше. Скажите-ка мне лучше, Ника, – Лопатин произнес ее имя с оттенком иронии, – нестрашно вам называться Никой? Не слишком ли это величественно именоваться богиней победы, особенно в военное время?
– Мне не страшно, – сказала она. – А если вам страшно, можете называть меня Ниной Николаевной.
– Хорошо, я подумаю над обоими вариантами, – без улыбки сказал Лопатин. – И простите мне мое невеселое любопытство: почему вы сейчас одна, а в поезде были другая? Такая, словно с вами что-то стряслось. Я пялил на вас глаза не только потому, что трудно было не пялить, но еще и потому, что подумал: с этой женщиной у соседнего окна что-то случилось.
– Сейчас я другая, потому что, наверно, не умею быть одинаковой. А там, в вагоне, мне, правда, было тяжело, потому что…