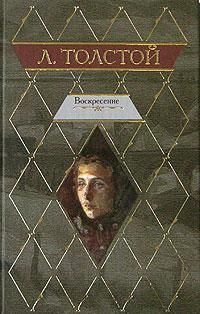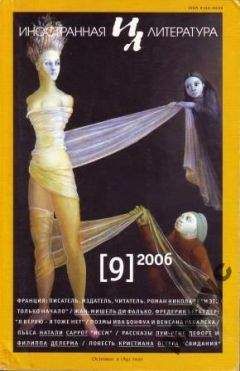— Тищенко, ты был на КПП?
— Никак нет, товарищ сержант — вы ведь мне запретили.
— Запретить-то запретил, но кто тебя знает — ты ведь у нас «дембель»! Слова сержанта можешь и через член пробросить… Можешь?
— Никак нет.
— А почему, когда я в окно выглянул, тебя рядом с остальными не было?
«Неужели знает, что я в клуб ходил? Но разве меня там кто-нибудь видел? А что, если кто видел и ему сказал? Нет, не может быть — мы в клубе одни были, а в окна с улицы почти ничего не видно. Почему же он тогда спрашивает? Может, просто проверяет — а вдруг я сорвусь и сам все выложу, если был в клубе? Ну, уж нет — тут либо пан, либо пропал! Надо идти ва-банк! Если он знает, то мне все равно несдобровать в любом случае, а если ему ничего не известно, то утаю», — мысли пронеслись с невероятной быстротой и Тищенко с заметной задержкой, на которую сразу же обратил внимание сержант, осторожно ответил:
— Может быть, я просто дальше остальных отошел? Я в дальнем углу подметал.
— А что это ты так долго над ответом думал? — с подозрением спросил Гришневич.
— Просто вспоминал, как могло получиться такое, что вы меня не видели.
— А может, не поэтому? — прищурил глаза сержант.
«Не верит, гад! Нужно что-то придумать, чтобы он поверил», — лихорадочно соображал Игорь.
— Так что — может, я прав?
— Товарищ сержант, просто я не хотел говорить…
— Ну! Уже теплее! — злорадно откликнулся Гришневич.
— Дело в том, что в дальнем углу плаца ветер все время разметал кучу, и поэтому там не слишком хорошо убрано. Я боялся сразу об этом сказать. Может, сбегать и доубирать? — нашелся Игорь.
«В крайнем случае, он сейчас вновь отправит меня на территорию. А вдруг он знает?» — Тищенко напряженно следил за реакцией своего командира. Но сержант, заметно разочарованный ответом Игоря, лишь раздраженно буркнул:
— На этот раз тебе поверю.
И тут же приказал взводу готовиться к построению на обед.
После обеда сержант подозвал Игоря к себе и спросил:
— Ну что, Тищенко — хочешь сходить на КПП к матери?
— Так точно.
— Но ты понимаешь, какую свинью подложил взводу?
— Понимаю, — угрюмо выдавил Игорь.
Тищенко понимал, что без этого ответа Гришневич ни за что не отпустит его на КПП.
— Ладно, помни мою доброту — даю тебе два часа. Ровно через два часа ты должен быть здесь. И скажи матери, чтобы завтра не приходила — никаких свиданий завтра я не разрешу! Понял?
— Завтра она не придет — она вечером уезжает.
— Вот и хорошо.
— А докладывать через час надо?
— Нет, иди.
Елена Андреевна уже не надеялась на то, что сын вновь придет, в клуб.
— А вот и я, мама! — радостно воскликнул Игорь, едва только вошел внутрь.
— Ты опять сам пришел? Или тебя отпустили? — озабоченно спросила Елена Андреевна.
— Не бойся, теперь уже отпустили. На целых два часа, и докладывать не надо, — улыбнулся Игорь и тут же с радостью заметил, как погасли огоньки тревоги в уголках глаз матери.
— Надо же — и чего это твой сержант так расщедрился?! Наверное, стыдно стало. Да я уже думала, что ты не придешь. Знаешь, Игорь, смотрела я на то, как ты листья подметал и так мне обидно стало — ведь не на учении ты, не в наряде, не на учебе какой-нибудь. Неужели нельзя было тебя сразу ко мне хоть на полчаса отпустить?! Хотелось все это твоему сержанту сказать… Пусть бы ему стыдно стало… Тем более, что на улице столько солдат с родителями, и по их разговорам я поняла, что они бывают здесь каждые выходные.
— Ему бы не стало! Ему, по-моему, вообще никогда стыдно не бывает. Он теперь вообще озверел — наш взвод больше всех остальных службу тащит.
— Что же это он так?
— Просто взвод лишили увольнений.
— За что?
— За меня! У меня в увольнении пуговица стертая была, и патруль увидел.
— Опять двадцать пять! Горе ты мое — и сам пострадал, и людей подвел. Они ведь минчане. Теперь из-за тебя домой не попадут. Только я что-то не пойму — неужели это все из-за пуговицы?
Игорю пришлось подробно рассказать всю историю с увольнением.
— Да, плохой ты у меня солдат. А что с госпиталем?
— Мне нужно ехать и ложиться, но пока никто не везет. Вакулича я на этой неделе вообще не видел, а кто меня еще повезет? Если на будущей неделе увижу, то, наверное, уеду отсюда.
— Ты думаешь, что уедешь? — мать нервно мяла в руках конфетный фантик.
— А кто его знает? Ну, раз написано, что меня надо госпитализировать, то думаю, что уеду, — после некоторого раздумья сказал Игорь.
— Ну, дай-то Бог? Потерпи — совсем немного осталось. Кстати, сынок, а где твои часы?
— Одному тут дал на время поносить. Он отдаст.
— И давно?
— Недели с две или три.
— Так забери. Кому ты дал?
— Да не волнуйся ты — я прямо сейчас заберу, просто забыл. Он здесь, в клубе.
— Так подаришь, а потом не найдешь. Иди и забери при мне, чтобы я зря не думала.
Игорь поднялся наверх. У него не было большой уверенности в том, что Маметкулов сразу отдаст часы, и Тищенко неcмело постучал в дверь. За дверью громко играла музыка, поэтому Маметкулов открыл не сразу:
— Чего тэбе?
— Отдай мои часы, если они тебе больше не нужны.
— Сэйчас, — Маметкулов исчез в глубине радиорубки.
Достав из какого-то тайника часы, Маметкулов подал их Игорю:
— Спасибо. Беры, зома.
«А все же он неплохой парень», — подумал Игорь, одевая часы на руку. Между тем, Маметкулов поначалу не собирался возвращать Игорю часы, но, случайно увидев курсанта вместе с матерью, испугался и решил вернуть. К тому же он лишь вчера узнал, что к этому курсанту почему-то благоволит Курбан.
— Вот и часы, — похвастался Игорь, спустившись вниз.
— Да, Игорек, а откуда это вы шли утром, когда я приехала?
— Утром? Наверное, из парка — мы там сапоги чистили, и я себе даже поменял. Вот они — новенькие!
— Ваши сапоги такие неудобные. Одного смуглого паренька видела, он в конце строя шел. Наверное, из Средней Азии. Так у него такие сапоги большие, что он, бедный, едва ноги от земли отрывал.
— А-а, это, наверное, Хакимов был, — догадался Игорь.
— А что же это ему такие сапоги дали? Неужели у него нога такая большая?
— Нормальная у него нога, просто сам бестолковый. Он в самом начале вместо сорок первого сорок третий размер взял. Вот ему и трудно ходить.
— Зачем же он большой размер взял?
— Не знаю. Может быть, не разобрался…
— А куда ваши командиры смотрят?
— Он никому не говорит, а так… Кому он нужен? Но, вроде бы, про это уже узнали — прапорщик Атосевич обещал ему сапоги заменить.
— Конечно надо, ему ведь трудно так ходить!
Мать уехала в пять часов вечера, а Игорь вернулся в казарму.
Глава тридцать девятая
Пиршество в сушилке
Уничтожение липовой аллеи. Курсанты обрубают ветви сваленных деревьев. Уже октябрь — не за горами и выпуск из учебки. Может ли Кохановский в одиночку погрузить кучу ветвей в машину. Поединки курсантов. Коршун — Тищенко завершается ничьей, но у Игоря разбиты очки. В санчасть проведать Доброхотова. Доброхотов дает Игорю дельный совет. О чем, по мнению Лупьяненко, задумался Тищенко. Шорох считает, что Лупьяненко пора «щупать баб». Озадачанный Петров. Ночной праздник живота. Едва не попались.
После обеда пилили липовую аллею. Огромные, покрытые бронью столетней коры деревья, поначалу казались неприступными. Многочисленные трещины, покрывавшие стволы, напоминали морщины на лицах почтенных старцев. Но вот пила с визгом впилась в тело одного из гигантов. Медленно, сантиметр за сантиметром, она вгрызалась в древесину, надрывно гудя своими шестеренками и отплевывая в стороны опилки. Казалось, что это не опилки, а самая настоящая кровь. Тищенко даже померещилось, что он чувствует боль, причиняемую пилой, и ему стало жаль это старое и величественное дерево.
Он вспомнил, что точно такую же картину наблюдал два года назад в Городке. Тогда, согласно новому проекту, уничтожали тополя, по преданию, посаженные еще по приказу самой Екатериной II. И тогда Игорь на всю жизнь запомнил эту жестокую борьбу дерева и человека. Человек в эти минуты выглядел безобразным чудовищем.
Казалось, что по телам гигантов пробегает самый настоящий шок — легкое дрожание листвы как бы выдавало нестерпимую боль, которую испытывало дерево. «Что со мной — это абсурд?! Я ведь биолог — дерево не может чувствовать боль! Что-то я совсем сентиментальным стал», — растерянно подумал Игорь, ощутив подкативший к горлу комок.
Тищенко с самого детства воспитывали в благоговейном, едва ли не религиозном отношении к дереву, и при уничтожении лип курсант испытывал почти то же самое, что испытывает истинный верующий, видя, что совершается грех, который он не в силах предотвратить.