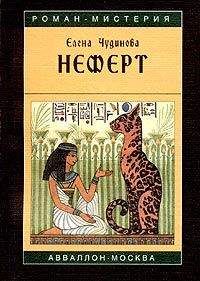Миша Молочко ехал домой через Москву, заглянул к нам. Был полон пережитым и горд: преодолел все превратности нелегкого похода. Писал другу со здоровым мальчишеским презрением: «Павел растворился в семейном счастье». (Письмо сохранилось в архиве И. Крамова.) Утратил, выходит, ореол бродяги. Сам-то он внял зову жизни, захвачен необъятными просторами, Волгой, красотой. Прозябание вожака осудил.
А этим летом надумал отправиться на строительство Ферганского канала. Увлек и Наровчатова. В опубликованных теперь их письмах из того далека гудит время.
Вернувшись, Миша, услышав про мои дела, ринулся всполошенно в роддом, передал в палату записку: «Ленка, милая! Ты сама не представляешь, какой ты молодец. Мы все ничтожества и ноль. Что ты такое сделала? Я до сих пор не могу ясно понять. Быстрей выходи. Будем принимать твое чадо (дочку) в наше общество. С разрешения мужа дружески целую тебя и Ольгу Павловну. М. Молочко».
Храню эту записку, уцелела она сквозь всю войну вместе с другими бумажками, письмами, записями в ящике моего маленького, еще со школьных лет письменного стола. Голодные военные мыши ее пощадили. Но время написанные карандашом слова вот-вот сотрет.
Миша стал приезжать к нам, молча просиживал у черной, подержанной коляски, перешедшей от дальней родственницы: такое было в порядке вещей. Меня-то он вообще не замечал, будто вовсе не мне адресована его взволнованная записка. Все же изредка я напарывалась на странный, напряженный взгляд его: искал чего-то дознаться и тут же в хмурой застенчивости отводил глаза. Был глух к громким голосам, обрывкам стихов, а то и песен, доносившихся из комнатенки при кухне, где обычно собирались молодые поэты. После первого всплеска всем не до Оли, маленького существа, — глобальные сотрясения на подступах. А его не выманить. И ведь это именно он, Миша Молочко, провозгласил: «Наша романтика — будущая война с фашизмом, в которой мы победим». Это было подхвачено, стало чем-то вроде присяги. Ведь мы жили в предчувствии чрезвычайных событий, к которым окажемся призваны.
Миша Молочко — высокий, статный, с красиво посаженной головой — молчалив, интригующе замкнут. А еще — это едва кто знал — такой видный парень влюблен безответно. Не водил студенческого компанейства, а в избранной дружбе надежен, предан. Жил с запросом к своей литературной судьбе, и он первый уже печатался в «Литературной газете» с критическими статьями. Но притом заветно копил в себе писателя-прозаика. Прилаживался писать повесть.
Сейчас, когда пишу об этом, впервые прочитала страницы его неоконченной повести и не могу успокоиться. Не знала, ведь одаренный прозаик.
А тогда он подолгу просиживает у коляски, мает его что-то постичь. Казалось бы, все ясно, стройно в его жизни, и открыты ему манящие просторы Родины. И вдруг споткнулся. «Мы все ничтожества и ноль» перед чудом явления человека. А может, он просто сентиментален — лицо замкнутое, только подвижные уголки рта выдают скрытую улыбку. Растроган, глядя, как неуемно болтает ручками-ножками крохотное существо, выпроставшись из пеленок, отвоевывая себе волю жить, двигаться.
Так это или по-другому, но как жутко мало дней отделяло от первых залпов на Карельском перешейке.
При входе в ИФЛИ доска, на французском языке воспроизводившая название нашего института, исчезла. На ее месте утвердилась такая же доска на немецком языке. В порядке обслуживания советско-германского пакта культурными мероприятиями, обменом художественными ценностями была извлечена старая немецкая кинолента «Сказание о Нибелунгах». Доставили ее и в ИФЛИ. Был слух, что лента очень интересная и до последнего времени у нас запрещенная. 15-я аудитория была сверх меры переполнена — ажиотаж. Натянули над сценой белый экран. Лента была немая, полагался тапер, и нашли студента Льва Безыменского, притащили на сцену. Поначалу он сопровождал на рояле изобразительный ряд нейтральными мелодиями, но его вдруг подхлестнуло, и когда Зигфрид садился на коня, рояль загромыхал: «Седлайте, хлопцы, кони!» И пошло! Кадр за кадром. Появление Брунхильды на высоком берегу над Рейном шло под аккомпанемент: «Выходила на берег Катюша» (это запомнилось Ю. Шарапову). Что тут творилось! Аудитория захлебывалась хохотом, издеваясь, гогоча, давая выход чувствам к «нашим заклятым друзьям».
Грохнуло артиллерийскими залпами на Карельском перешейке. Война.
Принял ли ее Миша Молочко за ту самую, Большую, что ждали, но как бы то ни было — ведь война, и его рвануло в нетерпении все встретить лицом к лицу, все испытать — записался в добровольцы. Увлек за собой и Сережу Наровчатова. Ребята едва справлялись с заносчивостью, горды собой.
Павел Коган идти на финскую войну не вызывался. Он говорил Вике Мальт, что эта война несправедливая «и развязана не маленькой Финляндией, как об этом писалось в газетах, а нами — страной-колоссом и имеет привкус аннексии, а кроме того, просматривается в ней корыстный замысел проверки собственных сил». Спустя годы В. Мальт, вспоминая тот давний разговор, пишет, что смогла оценить «самостоятельность его мысли, а главное, меру его доверия ко мне, его смелую открытость»[2]. За такие суждения можно было жестоко поплатиться.
Эта финская зима в глухом сумраке завешенных окон. При тщетно коптящей в комнате керосинке для обогрева при осевшем отоплении. При нехватке рубля на молоко, на папиросы Павлу. При жизнедеятельности мамы, ломящейся без удержу в кухню, насилу прогретую четырьмя конфорками ослабевшего в подаче газа, где мы с Анной Викентьевной держим оборону, вдвинув ванночку с теплой водой в дверь, чтоб дверь не поддалась, не впустила холод. В ванночке плещется ребенок — положено это ему вопреки стихии войны. Я приподнимаю из воды девочку — писк возражения, гримаска обиды на личике. Анна Викентьевна окатывает ее теплой водой из кастрюли, ласково приговаривая: «С гуся вода, с гуся вода, а с нашей девочки беда».
Но как уберечь?
Только братишка Юрка, одиннадцатилетний, невероятно воодушевлен — ответственное задание управдома: носится по двору, следит, не пробивается ли где из окна свет в нарушение директивы о сплошном затемнении. Что это? Неужто финны налетят? Война…
Все на свете прощается,
Кроме памяти ложной
И детского ужаса,
— писал Павел вслед окончившейся войне, —
Нам с рожденья положено
Почти аскетическое мужество.
И на стольких «нельзя»
Наше детство сухое редело.
Этот год перезяб,
Этот год перемерз до предела.
И всего-то делов, что прибавилось в ящике —
Комья строк перемерзших моих
И записок твоих беспокойная вязь.
И не стоит об этом —
Кому это, к дьяволу, нужно.
Все на свете прощается,
Кроме памяти ложной
И детского ужаса…
Миша Молочко не вернулся. Первая наша жертва, потрясенно пережитая. Сергей Наровчатов не видел его мертвым. Но он навидался стольких смертей — убит или замерз, что смерть Миши зримо стояла перед ним, не отпускала. Вот его письмо ифлийскому товарищу:
«Верхний Идель. 10.02.40.
Письмо будет горьким. Вот что я знаю о ребятах. Миша Молочко — пропал без вести. В батальоне говорят, что убит. Жорка Стружко — пропал без вести. В батальоне говорят, что он отстал от колонны и замерз. Витька Панков в госпитале: обморозился.
Был в боях. Много товарищей погибло. От первой роты остались и строю 14 человек. Не спали шесть суток. Условия были тяжелые. Передай Льву К., что его товарищ В. Савченко отстал от колонны и замерз. Только две ледяные сосульки на усах торчали. Финны орудуют небольшими бандами. Обстреливали беспрестанно и с разных сторон.
Писать трудно — каждую строку, как клок мяса, рвешь. Кончаю. Пишу из госпиталя. Обморожен…»
И еще одно письмо: «на фронт попали в январе нового 1940 года. Нас отправили в роту по тылам противника. Попали в тяжелую обстановку. Повидали такое, что до сих пор мороз по коже, когда вспоминаешь».
«Пишу из госпиталя. Обморожен. Пальцы на ногах, кажется, останутся при мне. По выздоровлении недели через две на фронт.
Привет ребятам и девочкам».
Сергея спасло то, что был сильным лыжником и, живя на Колыме, с детства — на лыжах (мать с ним последовала за отцом в ссылку) и привычнее других к морозам. Замерзающий, измученный без сна батальон в рейде по тылам противника. Сергей уходил на лыжах вперед и, привалясь на палки, засыпал. Поравнявшись с ним, его расталкивали, потому не уснул навеки, замерзнув, а поспав сколько-то, немного набирался сил, снова отрывался от бессонного батальона вперед и мгновенно засыпал стоя. Но обморожения не избежал.
Вернулся опустошенный, сломленный. Взглянул в тупое, бессмысленное, зверское лицо войны. Кончилась ликующая юность. Выбито ощущение своей бессмертности.