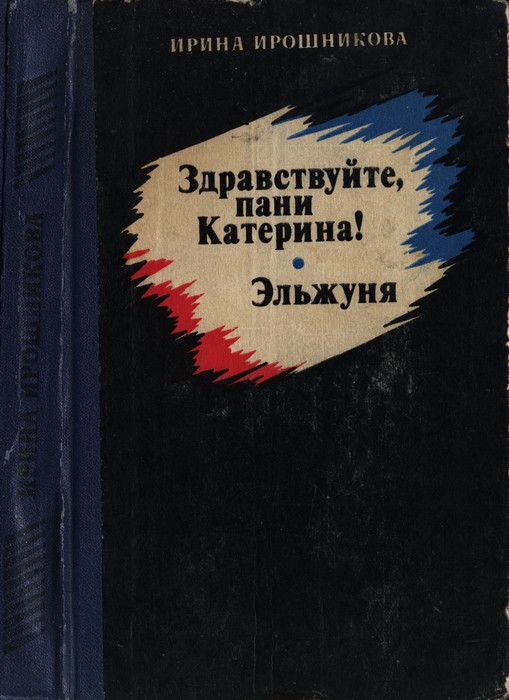Що зи мною буде, той з ними». («Що зи мною!» — это было слабое утешение.)
Ксеня дала мне свой адрес. Записать его было нечем. И я повторяла как заклятие, чтобы не забыть: Житомир, улица, номер дома.
Потом она вывела Татьянку. И я попрощалась с Татьянкой — через проволоку.
Так она и осталась в памяти, Татьянка: за проволокой. На фоне серого неба. И серого снега. Темная маленькая фигурка в каком-то тряпье…
Зосю Кристина взяла из Освенцима. Взяла неожиданно для себя. Случилось это в один из последних январских дней 45-го года.
В тот день Кристина и Михал — он тогда только что вернулся, ему удалось бежать из Германии — не без труда добрались до города, в котором прежде жила семья Кристины. Не без труда, потому что поезда уже почти не ходили.
Кристина хотела проведать пани Марию — соседку, подругу матери, — надеялась, может быть, пани Мария знает что-нибудь о Бронке — сестре Кристины. И о матери. Через пани Марию получила когда-то Кристина первую записку от Бронки. Через нее узнала об Освенциме — лучше бы ей не знать этого!
Поначалу от Бронки приходили открытки — лагерные, в месяц одна, как положено. Ничего не напишешь в таких открытках, но Кристина знала хотя бы — Бронка жива. О матери она не знала и этого. Мать ни разу не написала ей. И Бронка не упоминала о матери.
Потом перестала писать и Бронка…
Оказалось, пани Мария тоже ничего не знает о них. Знает только, что Освенцим эвакуировался. Узников угнали из лагеря. Последние партии их охрана гнала пешком, торопясь, не делая остановок: ночью и днем через Силезию — в глубь Германии.
В лагере остались только больные, да инвалиды, да, говорят, дети. Остались потому, что их не успели уничтожить.
Люди шли в лагерь. Шли пешком из этого города. И из других ближайших городов, деревень.
Некоторые шли, надеясь отыскать своих близких. Или разузнать что-либо о них. Иные стремились увидеть хотя бы место их гибели.
Кристина с Михалом тоже отправились в Освенцим. Вместе с другими они шли к Бжезинке, к женскому лагерю. Шли со стороны Вислы, через зимний, припорошенный снегом лесок. А поодаль, по обе стороны протоптанной тропинки, высились аккуратно сложенные поленницы недлинных березовых и сосновых дров, заготовленных, верно, для лагерной кухни — подумалось так Кристине.
Поленницы эти вызывали представление о доме…
Вечереет. Жарко пышет огонь в печи. Пахнет свежеиспеченными лепешками, — мать всегда старалась топить попозже, чтобы печь не выстыла до утра, чтоб не холодно было вставать девочкам: ей, Кристине, и Бронке…
Видно, кроме Кристины, кто-то еще подумал о том же, похожем. А может, и сказал вслух, потому что кирпично-рыжий мужчина, что шел с ними рядом со своею молчаливой высокой женой, тотчас же пояснил: дрова эти вовсе не для кухни. Не для печей… «А уж если и для печей, то дьявольских» — так он сказал. Эти дрова заготовлены узниками для костров, на которых немцы сжигали трупы. Люди в лагере мерли так, что в крематориях не успевали сжигать. «Уж наверное знаю, что говорю…»
Но «знающий» этот человек тогда еще очень мало знал об Освенциме. И об этих дровах. И о том лесочке, через который они шли…
Окруженный колючей проволокой, лагерь казался совсем безлюдным,
Они прошли через лаз — дыру в проволоке.
Столбы с фонарями. Сторожевые вышки. Бараки, бараки… Невысокие. А над ними высокие островерхие крыши. По виду, право, конюшни с сеновалом. Трехъярусные нары внутри бараков с уцелевшим кое-где вонючим, липким тряпьем.
Хлопая окнами и дверями, по баракам гулял ветер. Но и ему, январскому, злому, не под силу было выветрить из барака этот спертый дух разложения, скученности. Этот особый, ни на что не похожий запах голода.
Промерзшие земляные полы. Побуревшая от времени кровь на стенах: брызги, пятна. Надписи, выведенные кое-где кровью. Кое-где чем-то выцарапанные, торопливые, сделанные, видно, перед самой дорогой.
«Мамусю угоняют в Германию. Увидимся ли?»
«Тетя Зося, вашу Крысю сожгли. Меня угоняют. Расскажите всем».
«Нашу маму, Ядвигу Стефаньску, забили насмерть. Нас угоняют».
«Погибаем! Прощай, Польша!»
Темнело в глазах от этих надписей. С безмолвным ужасом, с застывшим на губах криком разглядывала бараки Кристина. Так вот каким оказалось последнее жилье ее матери. А может быть, и сестры…
Темнело в глазах от этих надписей. Но Кристина не смела оторвать от них взгляда. Искала ту, что могла быть сделана рукою ее матери. Ее сестры. Искала обращенное к ней их слово.
Хорошо, что Михал был рядом. Плечом она ощущала его плечо.
Вместе с другими Кристина и Михал переходили из барака в барак. Пока наконец не набрели на этот… Было в нем так же холодно, как и других. Так же полутемно. Но этот барак был наполнен живым дыханием, В нем еще жили… дети!
В этом бараке были дети. Одни лежали на нарах скрючившись, чтобы сохранить свое живое тепло, — серые, странной формы клубочки, из глубины которых поблескивали глаза. Другие — раскинув руки, видимо больше не ощущая стужи. А стужа в бараке стояла такая, что дыхание превращалось в облачка пара.
Те, у кого еще оставались силы, сползли вниз. И теперь сидели в узких проходах между нарами, прямо на промерзшем полу.
Некоторые из них переговаривались негромко на каком-то жаргоне, состоящем из польских, русских, украинских, белорусских слов, давно утративших свой первозданный смысл.
Словно бы нехотя отвечали они на обращенные к ним вопросы. Или не отвечали совсем — молчаливые, безучастные ко всему. Только во взглядах их можно было угадать ожидание.
Из взрослых в этом бараке находилась лишь одна женщина, присматривавшая, видимо, за детьми. Она тоже сидела прямо на полу и, привалившись к стене, надрывно кашляла.
Кашляла, задыхалась, сплевывала мокроту, а когда ей наконец удавалось прокашляться, вытирала губы тыльною стороною ладони, и на бурой ее, как земля, коже оставались кровяные волокна.
В короткие промежутки меж приступами душившего ее кашля она говорила, говорила натужным, сиплым голосом, обращаясь к тем, кто, как Кристина и Михал, забрели сюда в поисках своих близких.
— Люди! Женщины! — с натугой говорила она. — Оци диточки — сироты! Погибают с голоду! Люди! Женщины! Не дайте ж вы им погибнуть…
Притерпевшись к царившей в бараке полутьме и постепенно начав различать лица, Кристина неподалеку от себя заметила девочку.
Совсем крохотулька, с темными круглыми глазенками, замотанная в какое-то рванье, она была целиком поглощена своим занятием. А занималась