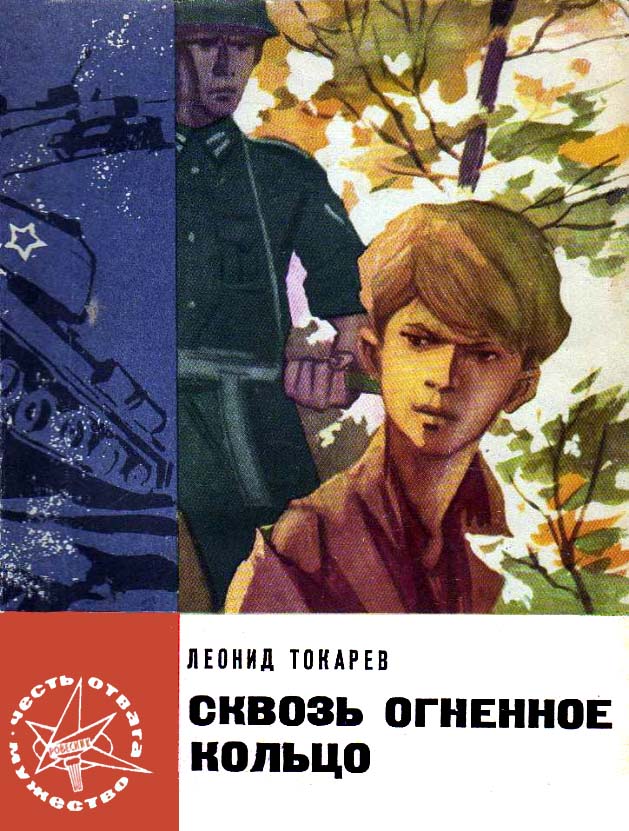мутные. Неизменный хлыст пронзительно рассекал воздух, изредка прикасаясь к сияющим голенищам сапог. Согнав пацанву к самому крыльцу домика, «Их бин — дубина» торжественно объявил:
— Завтра всех вас ждет большая радость! Будете петь под оркестр.
Действительно, утром появился оркестр. Но, боже, что это был за оркестр?! Толстенький, будто надутый воздухом, лысый человечек приволок огромную виолончель. Человечек был одет в черный фрак с фалдами, в стоптанные бутсы, сквозь которые проглядывали пальцы, в белоснежную сорочку. Галстук-бабочка дополнял убранство. Пот лил с толстяка ручьями, и он не успевал вытирать лицо синим платком. Его товарищ — длинный и тонкий, словно карандаш, с пышной черной шевелюрой, в золотом пенсне — держал в руках футляр со скрипкой. Тонкие, бескровные губы скрипача начинали подрагивать, как только он замечал рядом фашиста. Третьим был пианист.
— Я тебя, жид проклятый, — орал «Их бин — дубина» на пианиста, — заставлю самому притащить сюда пианино из кабака! Нет, лучше рояль!
— Но я, пан, не знал! — испуганно хлопал ресницами пианист. — Меня привели прямо из дома, я бедный человек, у меня нет инструмента.
— Ха, ха! Нет инструмента! А где ты прячешь чулок своей Сарры с золотом? — злорадно потирая руки, произнес гестаповец. — Будешь играть Баха на стуле. Я тебя научу отстукивать пальцами прямо на сиденье стула.
Все мы невольно взглянули на пальцы пианиста. Они были тонкие, нервные, будто сделанные из дорогого фарфора.
Бедный пианист, прикусив губы и спрятав испуганный взгляд за толстыми стеклами очков, опустился на колени и начал осторожно отстукивать на фанерном сиденье стула. Товарищи решили ему помочь: скрипка и виолончель дружно запели что-то бравурное и громкое, но «Их бин — дубину» не так-то легко было провести!
— Стоп! — взревел он. — А ну, давай соло!
Пальцы послушно забегали по сиденью стула. Тщетно. Те глухие звуки, что рождались под ними, тут же глохли, едва долетая до нас. Чем больше старался пианист, тем резче был звук, тем яростнее становилось помахивание хлыстом. Было невыносимо смотреть на пианиста.
Мои товарищи притихли. Даже всегда румяный Саша побледнел и шевелил губами, будто отбивая такт.
Свист хлыста разрезал воздух. Сердце рванулось и звонко забилось в груди. Пианист отдернул руки, вскочил на ноги, тряся над собой покрасневшими пальцами. Из глаз музыканта медленно покатились слезы. Мы, «хористы», ожидая, что произойдет дальше, теснее прижались друг к другу.
— Продолжай! — рявкнул фашист. — Я тебя научу играть!
Начальник лагеря что-то приказал охраннику, и тот, сбегав в домик, принес жестяной таз. Пианист, зажмурившись, что есть мочи ударил по жести. Мне показалось, что его фарфоровые пальцы разлетелись на мелкие кусочки, породив собой звонкий и требовательный звук. Но вдруг «Их бин — дубина», забыв про нас, рванулся к проходной.
«Что бы это?» — только и успели подумать мы, как тяжелые створки ворот дрогнули и, скрипя, начали раздвигаться.
Поблескивая никелем радиатора, с улицы мягко вкатил черный большой автомобиль с откидным тентом. На заднем сиденье, утонув в нем, удобно расположился представительный мужчина с бледным, до синевы выбритым лицом, со светлыми, причесанными на косой пробор, длинными волосами. Одет он был в отличный серый пиджак. Белоснежная сорочка была распахнута, открывая мускулистую грудь. Взгляд глубоко посаженных голубых глаз был внимателен и отдавал холодком. Приехавший, небрежно кивнув вытянувшемуся во фрунт начальнику, вылез из машины. Глаза-льдинки осторожно рассматривали наш горе-хор и оркестрантов.
— Что за маскарад? — остановил он свой взгляд на пианисте, сидевшем у жестяного таза.
Музыкант подскочил, весь затрясся, пытаясь что-то сказать оправдательное, но страх оказался сильнее разума, и бедный музыкант только открывал рот, словно рыба, выброшенная на сушу.
«Их бин — дубина» стал похож на вопросительный знак. С него слетела вся спесь, и он лишь глупо улыбался прибывшему начальству.
— Что это? — чеканя русские слова, спокойно и любезно повторил мужчина. — Я вас спрашиваю!
— Да это… Это оркестранты из местного ресторана, — выдавил из себя «Их бин — дубина». — Мы тут задумали создать детский хор. Он будет зваться «Освобождение». Детей можно будет послать на праздник победы в Москву.
«Ну уж это ты загнул, жирный боров!» — так и хотелось крикнуть мне, но я сдержался, тем более что приехавший, а он, видать, был большим начальником, еще тише сказал:
— Доблестные солдаты фюрера с боя берут каждый метр земли противника, а вы здесь занимаетесь маскарадом. Кому нужен ваш хор? Кому? Я вас спрашиваю?
Кровь отхлынула с лица начальника тюрьмы. Он стал серым, как промокашка, губы его мелко подрагивали, а кругом замерли охранники. «Их бин — дубина» молчал.
— Музыкантов отправить в солдатское кабаре! — распорядился гитлеровец. — Пусть там веселят! А хор вышвырните на улицу. У нас и так нет места для пленных и арестованных, а вы здесь благотворительность разводите!
Мужчина закрыл дверцу лимузина, и тот важно выплыл из ворот тюрьмы.
«Их бин — дубина» сразу преобразился. Теперь это был прежний, свирепый и уверенный в себе человек. Постукивая хлыстом по правому сапогу, он тихо шел к нам от ворот.
Не говоря ни слова, поманил нас указательным пальцем за собой. Около ворот выстроил всех в шеренгу и так же молча стал рассматривать наши испуганные физиономии. Выбрав самого рослого среди нас — Сашу, начальник взял его за шиворот и, тихонечко подталкивая, подвел к распахнутым воротам. Оставив нашего недоумевающего дружка стоять спиной к тюрьме, гестаповец отошел шаг назад, постоял, раздумывая, и с полного хода влепил своим сияющим правым сапогом такой пинок Сашке, что тот, ласточкой пролетев метра три, шлепнулся в пыль. Не дожидаясь добавки, Сашка резво вскочил и что есть мочи припустил по улице под дружный хохот эсэсовцев.
И так каждому: точно рассчитанный удар, и ты целуешь пыль у ворот тюрьмы. Больно, но главное — ты на свободе!
Приземистые белорусские деревушки, затерянные в лесах и болотах, встречали нас настороженным лаем собак, любопытными взглядами ребятишек, жалостливыми расспросами солдаток. В деревушки эти, находящиеся поодаль от военных шляхов, еще редко заглядывали немцы, и народ здесь, будто по инерции, жил понятиями и интересами мирного времени. Бабы горевали о своих мужиках, ушедших на войну, судачили между собой о далеких фронтовых делах, копали картошку, выходили по вечерам за околицу встречать стадо. Расспросы баб каждый раз заставляли воскрешать в памяти воспоминания о том ясном и чистом утре, когда мы с ребятами поспешно распрощались с Брестом.
Над крепостью в синь неба вкручивались редкие столбы дыма, изредка слышались хлопки выстрелов, приглушенный перестук пулеметов. Последние защитники не желали сдаваться, решив дорого продать свои