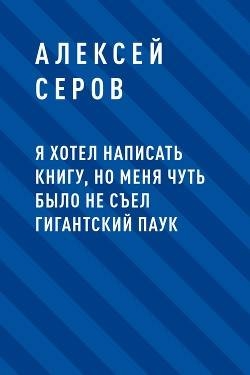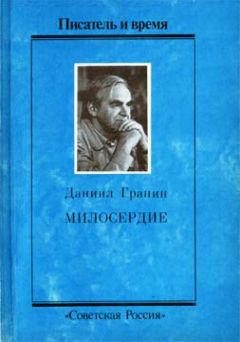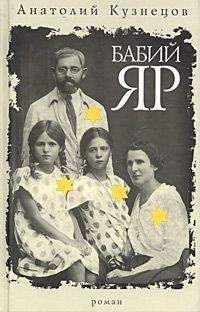таковой — или же это был ход женщины, играющей в мужские игры там и тогда, когда мужчин в нужном месте и в нужное время попросту не оказалось?
Я бы не хотела принимать такие решения. Это не значит, что я бы не смогла их принять.
К сожалению, жизнь показала, что женщина способна на многое, будучи поставленной в патовые условия.
Но людям свойственно тянуться к тому, что им соприродно. И я никогда не смогу понять и разделить энтузиазм и погружение женщин в стихию войны.
Война для женщины — это то, что крадет, уводит и губит ее близких.
Даже та война, цели и причины которой понятны, осязаемы и не подлежат сомнению.
Была ли эта война для меня такой?
Могла ли я всерьез понять и принять, поверить, что эта война — реинкарнация Великой Отечественной? Разделить внушаемые со всех сторон постулаты, что наша армия, взломав границы сопредельного государства, идет «освобождать свои земли»?
Мне с точки зрения простого обывателя было тяжело и практически невозможно это понять и принять.
Мой папа родом из Одесской области и на момент распада СССР, когда мои родители уже почти десять лет, как развелись, жил там. Естественно, по факту он стал гражданином Украины и те разы, что приезжал к нам в гости, был обладателем синенького паспорта с трезубцем на обложке.
Это был обычный селянин, трудяга, бесконечно далекий от какой-то политики.
Могла ли я всерьез поверить, что мой папа какой-то там фашист и бандеровец, мечтающий истребить русских младенцев и радующийся гибели людей на Донбассе?
Нет, конечно.
Могла ли я всерьез разделять постулаты о том, что-де это такой же русский человек, как и житель условно Курганской области, которому кто-то внушил, что он человек другой национальности?
Нет, ибо слишком заметно и характерно было его отличие ото всего, что меня всю жизнь окружало.
Для меня было очевидно, что со времен распада Советского Союза мы просто-напросто пошли каждый своей дорогой — и за эти тридцать лет ближе не стали. И оставаться нужно было добрыми соседями, у каждого из которых теперь своя судьба.
И задача политиков была — сохранить это положение, беречь его.
К сожалению, политики обеих стран избрали совершенно другой путь. Вышло как вышло.
Но могло ли это вызывать у меня радость, одобрение или понимание?
Чувствовала ли я, что мой муж, находясь от меня за три тысячи километров, на чужой земле, защищает меня? И если да, то от кого?
Или же он был слепым инструментом чьей-то чужой, сугубо рациональной воли, решающей какие-то свои, скрытые от простых смертных задачи?
Я старалась не думать об этом. Слишком тяжелые и страшные мысли лезли в эти мгновения в голову.
Я старалась не думать, утешая себя тем, что это не моего ума и не моего уровня дело.
В разговорах с мужем мы практически не касались этих вопросов. Я была очень удивлена, услышав в начале сентября от него фразу, что «мы здесь для того, чтобы у вас там все было спокойно». Слишком необычной была эта фраза для его скептического, критического мышления. Будто там, за спиной, стоял комиссар с маузером и внимательно следил за тем, что он пишет в своем мессенджере.
Буквально несколько раз он пробовал развить свою мысль и больше к этому не возвращался.
Но даже исходя из того, что ему удалось донести до меня, я понимала, что, с его точки зрения, за этой войной стоят евреи, англичане, американцы, а тупые хохлы — это просто расходник в чужой игре. Что война с Западом все равно была неизбежной. Что Россию будут добивать в любом случае, потому что после победы над Германией мы больше Западу не нужны. Но даже по его выкладкам выходило так, что никакие «украинские фашисты» сами по себе России не угрожали и вряд ли дерзнули бы вторгнуться в наши пределы и идти до Москвы, убивая и грабя.
Я знала, что, по его рассказам, местные наших солдат не любят. Не скрывают своего негативного отношения. Что с ними нужно держать ухо востро и в любой момент ожидать от них какой-то гадости.
Это мало вязалось с картинами «освобождения исконно русских территорий», но вполне себе совпадало с образами и штампами «оккупация» или «интервенция».
И если использовать слово «оккупация» было гадливо-страшно и провоцировало внутреннее отторжение, ибо прямо отсылало к мышиного цвета мундирам других, нерусских солдат, то понятие «интервенция», оперирующее образами совсем уже далекой Гражданской войны: англичане в Мурманске, французы в Одессе, играло какими-то менее ужасными красками. Было в нем что-то домашнее, междоусобное, типа свары и драки соседей на кухне коммунальной квартиры.
Тем не менее война, какой бы ненужной и непонятной она ни казалась, шла полным ходом, и близкий мне человек находился там.
А значит, мышление мое и восприятие удалялось от каких-то абстрактных образов и пустых раздумий, обретая одно-единственное наполнение: желание, чтобы он выжил и вернулся домой как можно быстрее.
И если для этого нужно было, чтобы умер кто-то на той стороне фронта, — значит, пусть будет так.
Женское сердце, мягкое и доброе при прочих равных, становится рационально-жестоким и бесчувственным там, где речь заходит о жизни близких.
Но лучше бы, думалось мне день от дня, это все побыстрее закончилось.
3 октября днем муж позвонил мне и взволнованно, но максимально лаконично сообщил, что отправляется на задание: и оносамое сложное и опасное из всех тех, что ранее поступали.
«Очко?» — только и смогла спросить я.
Обычно он всегда отвечал четко и по существу, не скрывая подробностей. Ведь таков был наш с ним уговор.
В этот раз, однако, он на удивление уклонился от ответа, прямо сказав: я не буду ничего говорить.
Мы еще списывались и созванивались несколько раз в течение этого дня.
Затем где-то в районе трех по Москве он написал: «Ну все, мы поехали. Я отключаюсь».
И выключил телефон. И телефон молчал целых пять дней. Пять долгих дней.
Такого в моей жизни еще не было.
Тогда мне казалось, что эти дни были самыми страшными в моей жизни.
Я и представить себе не могла, что может произойти что-то более гнетущее и пугающее.
Они уехали 3 октября. На следующий день от них не было никаких известий. На третий день через чат я узнала, что вернулся кто-то из их группы. На четвертый день мне удалось выйти на старшего их группы. Он бодро заверил меня, что с