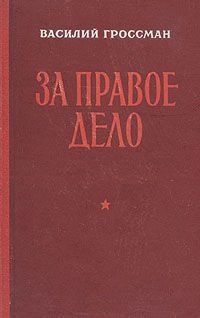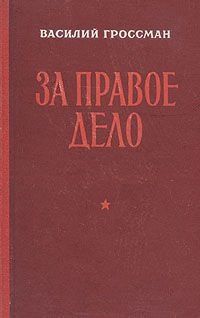— Раньше утра не начнёт,— сказал он.— Чего это ты пишешь?
— Политдонесение комиссару полка,— сказал Шведков.— Описал факты героизма, начал убитых перечислять да при каких обстоятельствах убиты и запутался: начштаба Игумнова пулей, а Конаныкина осколком? И кого раньше, я уж не помню. Как будто семнадцать часов было, когда Игумнова убило.
Они оба покосились на тёмный угол, где недавно лежало тело Игумнова.
— Брось ты летопись писать,— сказал Филяшкин.— Всё равно не доставишь в полк. Отрезаны.
— Это верно,— согласился Шведков, но не закрыл тетрадку и продолжал писать.
— До чего глупо погиб Игумнов: приподнялся связного позвать — его и срезало,— сказал Шведков.
— Знаешь что,— сказал Филяшкин,— ты имей в виду, комиссар, умно никого не убивает, всех по-глупому.
Ему не хотелось говорить об убитых товарищах, он знал суровое и спасительное чувство душевной замороженности в бою. Потом уж, если останешься жив, начнёшь вспоминать товарищей, и придёт боль… В тихий вечер подкатит под сердце, и слёзы польются из глаз, и скажешь: «Какой был начальник штаба, простой, хороший, как сегодня помню — только немцы начали атаку, он достал письма и порвал, точно чувствовал, а потом гребешок вынул, причесал волосы, посмотрел на меня».
А в бою сердце деревенеет, и не нужно его размораживать, не время, да и не может оно вместить всю кровь и смерть боя.
Шведков, просматривая написанное, вздохнул и сказал:
— Народ наш золото, не зря политработу проводили. Бойцы — спокойные, мужественные, один боец Меньшиков мне сказал: «Не сомневайтесь, товарищ комиссар, у нас всё отделение коммунисты, мы своё дело исполним, для меня смерть лучше, чем фашистский плен», а второй: «Не такие, как мы, помирали».— Шведков снова заглянул в тетрадку и прочёл: «Красноармеец Рябоштан заявил: „Я сейчас выкопал окоп, и никакой огонь меня не заставит уйти отсюда. Тяжело сдавать родную землю, если бы скорее наступать“… Боец Назаров вытащил двух тяжелораненых из огня, а затем убил десять фашистов, одного ефрейтора и одного офицера, а на мои слова: „Ты герой“,— ответил: „Что это за героизм? Вот Берлин взять — это героизм“. Он заявил: „С политруком Чернышёвым в бою не пропадёшь. Он в разгар боя подполз ко мне, засмеялся и развеселил меня“. Боец Назаров погиб смертью храбрых»…
— А командир полка слово сдержал,— сказал Филяшкин,— чем только мог помогал — и огнём, и в атаку переходил. Да потом на него самого немец навалился — пришлось отбиваться, я уж на слух понял.
— Ничего, может быть, завтра пробьётся к нам,— сказал Шведков.
Вблизи послышались один за другим два взрыва.
Шведков поднял голову.
— Начинают?
— Нет, это он до утра будет методическим, чтобы спать не давать,— снисходительно к понятому намерению врага проговорил Филяшкин.— Ох, но и бой жестокий был, в шестом часу я лично из пулемёта штук тридцать уложил, густо шли!
— Давай твой личный подвиг запишем,— сказал Шведков и послюнил карандаш.
— Брось ты,— сказал ему Филяшкин,— для чего это нужно?
— А чего ж? — ответил Шведков и стал писать.
— Чернышёв убит,— сказал Филяшкин,— принял команду после Конаныкина, минут через тридцать и его убило.
— Хороший парень, коммунист настоящий. И боец и агитатор. И бойцы его любили,— сказал Шведков и вдруг вспомнил: — Да, товарищ комбат, я ведь утром подарок принёс для наших девушек-героинь.
Он подумал, что не будь этого чёртового подарка, его бы так срочно не послал обратно комиссар полка и, быть может, он бы сейчас в блиндаже политотдела пил бы чай и писал отчётное политдонесение. Но мысль эта не вызвала сейчас в нём ни сожаления, ни досады. Он вопросительно посмотрел на Филяшкина и сказал:
— Кого наградим подарком? Пожалуй, Гнатюк? Она сегодня геройски поработала.
— Что ж, можно,— лениво растягивая слова, ответил Филяшкин.
Шведков окликнул автоматчика и велел ему позвать санитарного инструктора.
— Если только живая,— прибавил он.
— Ясно. Зачем она, если не живая,— угрюмо сказал автоматчик.
— Живая, живая, я проверил,— усмехнулся Филяшкин и, стряхнув с рукава пыль, утёр лицо. Он всё время потягивал носом: в воздухе круто пахло свербящим горьким дымом, жирной сажей, сухим известковым прахом — тревожный, хмельной дух переднего края.
— Выпьем, что ли? — неожиданно спросил непьющий Шведков.
— Нет, неохота,— ответил Филяшкин.
Всё переменилось за эти часы: деликатные стали грубыми, а грубые помягчели, бездумные задумались, а погружённые в заботы с весёлым отчаянием сплёвывали, говорили громко, смело, как пьяные.
— Чудак, что это ты всё пишешь, пишешь,— проговорил Филяшкин,— будто тебе (он подумал и назвал срок, казавшийся ему огромным в этой яме) ещё полгода жить? Давай лучше поговорим. Ты, как, осуждаешь меня за санинструктора?
— Осуждаю. Не знаю, может быть, и неправильно,— сказал Шведков,— пусть меня парткомиссия поправит, материал разберут. Я считаю, что командиру не нужно это.
— Ну, правильно, я и говорю, правильно. Чего ждать, пока разберут. Я тебе сейчас прямо скажу: виноват я в этом деле.
Охваченный дружелюбием, Шведков сказал:
— Э, давай примем сто граммов наркомовских по уставу, пока обстановка позволяет.
— Нет, неохота туманить себя,— ответил Филяшкин и рассмеялся. Его смешило, что комиссар, всегда осуждавший его за склонность к выпивке, сам сейчас просил его хлебнуть.
Над краем ямы показалось лицо санитарного инструктора.
— Разрешите залезть, товарищ комбат? — спросила девушка.
— Давай, давай скорей, а то убьют,— ответил Филяшкин. Он отодвинулся в угол: — Вручай, комиссар, я посмотрю.
Девушка, прежде чем пойти на командный пункт, несколько минут приводила себя в порядок. Но вода из фляжки не смыла чёрной копоти и пыли, осевшей на коже. Она тщательно тёрла нос платочком, но и нос не стал от этого белее. Она обтёрла сапоги куском бинта, но сапоги не блестели от этого. Она хотела заложить растрепавшуюся косу под пилотку, но запылённые волосы стали жёстки и непослушны, полезли из-под пилотки обратно на уши и на лоб, как у маленьких деревенских девчонок.
Она стояла, смущённая и неловкая в своей слишком тесной для полной груди гимнастёрке, измазанной чёрной кровью, увешанная сумками, в просторных суконных штанах, свисавших на её бёдрах, в больших тупоносых сапогах.
Она прятала свои большие руки с чёрными короткими ногтями, руки, отработавшие за этот день великий урок милосердия и добра. Она в эту минуту чувствовала себя некрасивой и неловкой.
— Товарищ Гнатюк,— громко сказал Шведков,— по поручению командования, за самоотверженную службу вручаю вам этот подарок. Это дар американских женщин нашим девушкам, сражающимся на Волге. Посылки доставлены на фронт прямо из Америки на специальном самолёте.
Он протянул девушке большой продолговатый пакет, завёрнутый в хрустящую пергаментную бумагу, обвязанный шёлковым витым шнурком.
— Служу Советскому Союзу,— сипло ответила девушка и взяла из рук комиссара пакет.
Шведков совсем иным, вернее не иным, а обычным своим голосом сказал:
— Да вы разверните его, интересно ведь и нам посмотреть, что вам женщины прислали.
Она сняла шнурок и стала разворачивать бумагу. Бумага потрескивала, топорщилась, посылка раскрылась, девушка, присев на корточки, чтобы не растерять предметов и предметцев, стала в ней разбираться. Чего тут только не было! Шерстяная кофточка, расшитая пёстрым красивым узором, зелёным, синим, красным; мохнатый купальный халатик с капюшоном; две пары кружевных панталон и рубашек с лентами; три пары шёлковых чулок; крошечные носовые платочки, обшитые кружевами, белое платьице из отличного батиста, с машинной прошвой; баночка душистого крема, флакон духов, обвязанный широкой лентой.
Девушка подняла глаза и посмотрела на командиров взором, полным женственности, душевной грации, и, казалось, мгновенная тишина наступила над вокзалом, чтобы не смутить и не согнать с её лица этого выражения. Всё было в этом взоре: и печаль о не данном ей судьбой материнстве, и чувство своей суровой участи, и гордость своей участью.
Она стояла в больших солдатских сапогах, в штанах, в гимнастёрке, и странно, удивительно, но, может быть, женщина никогда не была так прелестно женственна, как в этот миг, когда Елена Гнатюк отказывалась от красивых, милых вещиц.
— Зачем мне это всё? — спросила она.— Я не возьму, мне это теперь не нужно.
И мужчины смутились, поняв, что чувствовала в эти минуты девушка, сознавая себя такой неуклюжей, некрасивой и такой гордой.
Шведков потёр между пальцами край дарёной узорной кофточки и смущённо сказал:
— Шерсть хорошая, это не бумажная ткань.
— Я здесь их оставлю, куда ж мне брать,— сказала она и, положив посылку в угол, отёрла ладони о гимнастёрку.