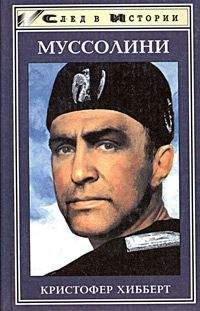Ленард сказал:
— Я к вам приду посидеть, тут можно пройти от меня внутренним коридором, не выходя на улицу.
— Заходите, у меня есть спирт,— сказал Бах,— меня раздражают бесконечные разговоры о трофеях.
— Если мы высадим десант на Луне,— сказал Ленард,— то первый вопрос нашего гауптмана будет: есть ли тут мануфактура, потом уж он спросит, есть ли кислород в атмосфере.— Он постучал пальцем по стене.— По-моему, эта стена возведена в восемнадцатом веке.
Стены поражали ненужной толщиной, такой толщины стены могли бы выдержать восемь этажей надстройки, а дом был одноэтажный.
— Русский стиль, бессмысленный и пугающий,— сказал Бах.
Телефонисты и вестовые помещались в большой комнате с низким потолком, офицеры уселись в маленькой комнатке. Из окошечка они видели набережную, памятник какому-то советскому герою и кусочек реки; из второго окошечка виднелись высокие серые стены городского элеватора и заводские постройки в южной части города.
Почти половину первого сталинградского дня они провели вместе, пили и разговаривали.
— Удивительное свойство немецкой натуры,— сказал Бах,— всю войну я тосковал по дому, а сегодня, когда я наконец поверил, что войне подходит конец, мне стало грустно.
Я не берусь вам сказать, какие часы были самыми приятными в жизни: не эти ли, минувшей ночью, когда я подполз с гранатами и автоматом к черной, дикой Волге, зачерпнул каской воды, вылил ее себе на разгоряченную голову и посмотрел на черное азиатское небо, на азиатские звезды, и капли воды были на стеклах очков, и я вдруг понял — это я, я прошел своими ногами от Западного Буга до Волги, до азиатских степей.
Ленард проговорил:
— Мы победили не только большевиков и русское пространство — мы избавили самих себя от бессилия гуманизма.
— Да,— сказал Бах, охваченный умилением,— вот такой разговор, как мы сейчас ведем с вами в завоеванном городе, на командном пункте роты, могут вести только немцы. Страсть обобщать факты — это наша привилегия. И вы правы: эти две тысячи километров мы прошли без помощи морали.
Ленард дружелюбно, по-товарищески, нагнувшись через стол, сказал:
— И я бы хотел видеть человека, который бы с берега этой Волги упрекнул Гитлера, что он повел Германию по неправильному пути.
— Такие люди, вероятно, есть,— сказал весело Бах,— но они, естественно, молчат.
— Есть, правильно, но разве это имеет значение? Разве на историю влияют сентиментальные старухи учительницы, интеллигентские слюнтяи и всякие там специалисты по детским болезням? Не они выразители немецкой души. Важна не сопливая добродетель, важно быть немцем. Это главное.
Они снова выпили, и туман застлал голову Баха, он ощутил непреодолимое желание завести откровенный разговор. Где-то в глубине сознания Бах понимал, что, будь он трезв, он не стал бы говорить того, что скажет сейчас, что, протрезвившись, пожалеет о своей болтливости, будет испытывать нудный страх и беспокойство. Но здесь, на Волге ничто не казалось недозволенным, даже откровенный разговор с Ленардом.
Ленард варился в армейском котле, он не тот, что был. В его светлых глазах с длинными ресницами было что-то притягивающее.
— Видите ли,— сказал Бах,— я долгое время считал, что Германия и национал-социализм — это различные вещи. Я воспитывался в такой среде: мой отец, учитель, вылетел со службы, он говорил школьникам не то, что нужно. Правду говоря, меня всегда интересовали другие идеи. Я не был сторонником расовой теории, откровенно скажу, я сам вылетел из университета. Но вот я дошел до Волги! В этом марше больше логики, чем в книгах. Человек, который провел Германию через русские поля и леса, который перешагнул через Буг, Березину, Днепр и Дон,— теперь-то я знаю, кто он. Вот это я понял… То, что дремало в туманных страницах: «По ту сторону добра и зла», в «Закате Европы», в Фихте,— все это сегодня марширует на земных полях…
Он говорил и не мог остановиться. Он сам понимал — сказались бессонница, напряжение последних боев, четыреста пятьдесят кубиков крепкой русской водки.
— Вот, Ленард, я все думал, должен вам сознаться в этом, что народ не хочет акций против детей и женщин, стариков и безоружных. И только в этот час победы я понял: эта битва идет по ту сторону добра и зла. Идея германской силы перестала быть идеей, она стала силой. В мир пришла новая религия, жестокая, яркая, она затмила мораль милосердия и миф интернационального равенства.
Ленард подошел к Баху, утер платочком с его лба капельки пота, положил ему руки на плечи.
— Вы говорите искренне,— медленно произнес он,— это главное, но вы все же ошибаетесь. Это наши враги приписывают нам отрицание любви. Но это чепуха! Эти слюнтяи выдают за любовь дрожь бессильных. О, вы еще увидите, как мы нежны, чувствительны. Не думайте, что мы только жестоки. Мы тоже знаем любовь. Но миру нужна лишь любовь сильных. Я хотел бы дружить с вами, милый Бах!
Бах увидел внимательный и ждущий взгляд. Он снял очки — и лицо Ленарда расплылось, стало светлым, безглазым пятном.
— Это настоящее,— сказал Бах, пожимая руку Ленарда,— я ценю настоящее. Послушайте, давайте выкупаемся в Волге, а? Здорово! Напишем домой — два немца купались в Волге, а?
— Купаться? Глупо, нас подстрелят,— сказал Ленард и добавил: — Вам надо просто смочить голову холодной водой, вы очень сильно хватили.
Бах, трезвея, с тревогой посмотрел на него.
В голове его быстро мелькнула хитрая мысль: если Ленард вздумает придираться к его словам, лучше всего сослаться на опьянение — шутка ли, такой день?
— Я действительно здорово напился,— пробормотал он.— Наутро я обычно не помню ни слова из чепухи, что болтал накануне.
Ленард, видимо, понял его и рассмеялся:
— Что вы, вы не говорили чепухи! Вы говорили замечательно, все это хоть завтра можно напечатать в газете.— Вдруг перейдя на «ты», он сказал: — Эх, слушай, дружище, как это я прозевал эту красивую женщину? Но я попытаюсь найти ее. Как живая перед глазами стоит.
— Я ее не видел,— сказал Бах,— но мне говорили о ней солдаты.
— Это единственный вид трофеев, который я признаю,— сказал Ленард.
Ночью при свете ярко-белой электрической лампочки Бах, морщась и вздыхая от головной боли, записал в свой дневник:
«…Мне кажется, я начинаю понимать суть. Не в отрицании человечности тут дело. Дело в высшем понимании… Сегодня Германия, фюрер решают главную задачу. Категории добра и зла способны взаимно превращаться, они формы одной сущности, они не противоположны, они условные знаки, противопоставление их наивно. Сегодняшнее преступление — фундамент завтрашней добродетели. Национальный импульс проглатывает, объединяет в себе добро и зло, свободу и рабство, мораль и аморализм в едином всегерманском порыве. Может быть, сегодня на Волге эта задача нашла свое окончательное и простое решение».
34
Роты Баха и Ленарда ушли из верхних этажей большого дома и разместились в просторном и прохладном подвале. Сквозь выбитые стекла проникал свет и свежий воздух. Солдаты трудолюбиво притащили в подвал мебель из несгоревших квартир. Подвал напоминал не военный бивак, а склад мебельного магазина.
У каждого гренадера имелась своя кровать, прикрытая одеялом либо периной. Были принесены кресла с затейливыми тонкими ножками, столики и даже трельяж.
Любимец батальона старший солдат Штумпфе устроил себе в углу подвала нечто вроде спальни. Он приволок из квартиры верхнего этажа двуспальную кровать, застелил ее голубым одеялом и положил в изголовье две подушки в вышитых наволочках, по обе стороны кровати он поставил ночные столики, прикрытые салфеточками, а на каменном полу постелил ковер. Он принес два ночных горшка и две пары стариковских туфель, обшитых мехом. На стене он повесил с десяток семейных фотографий в рамках, добытых в различных квартирах.
Он специально подобрал смешной семейный типаж. На одной фотографии были изображены старик и старуха, по-видимому рабочие, снятые в торжественной праздничной одежде: старик в пиджаке и галстуке сурово и смущенно нахмурился, старуха в черном платье с большими белыми пуговицами и с вязаной шалью на плечах сидела, кротко опустив глаза, руки ее лежали на коленях.
На другой очень старой фотографии были сняты молодожены, те же старик и старуха (эксперты определили это); она в белой подвенечной фате, с восковыми букетиками флердоранжа, миловидная и печальная, готовая к тяжелой и долгой жизни, а молодожен стоял рядом с ней, опершись локтем о спинку высокого черного стула, в лакированных сапогах, в черной тройке, с цепочкой на жилете.
На третьей фотографии был изображен дощатый гроб, обклеенный бумажными кружевами, в нем лежала мертвая девочка в белом платьице, а вокруг, взявшись за борт гроба, стояли смешные люди: старичок в ситцевой рубахе без пояса, бородатый мужчина, мальчик с открытым ртом и несколько пожилых женщин в платочках — все с каменными, торжественными лицами.