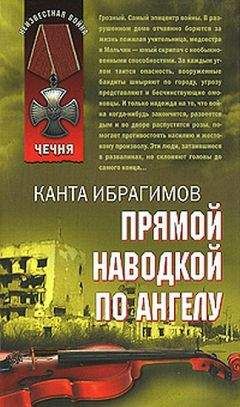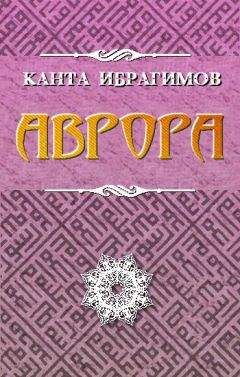Ознакомительная версия.
Врач тяжело вздохнул.
— Вот именно "муссируют", раздувают, готовят общественное мнение… А война конечно будет. В России есть поговорка, что "война — все спишет". А списать надо много грехов. Ой, как много! Это единственный вариант выжить — самый циничный, но эффективный… Знаете, когда речь касается огромных состояний, то говорить о душе, разуме, человечности просто глупо и даже кощунственно, — врач снял повязку с глаза Арачаева. — Теперь Вы мир увидите во всем многообразии, как в молодости.
— Да-а, — восхищался Цанка своему прозрению, — как я хорошо вижу.
Из больницы до гостиницы он ехал с Герзани в такси. Любовался старый Арачаев новой Москвой, восторгался грандиозностью и масштабами строительства.
— Вот это город, вот это богатство, — говорил он.
По-детски радуясь вернувшемуся зрению, Цанка весь день выглядывал в окно гостиницы, неожиданно он увидел, как к магазину напротив подъехал грузовик и под словом "Хлеб" была нарисована крупная фашистская свастика.
— Посмотри-ка, Герзани, — показал отец увиденное сыну. — Это значит, что фашизм кого-то кормит.
— Да перестань, дед, — усмехнулся молодой Арачаев, — это просто дети балуются.
— Нет, сынок, — грустно сказал Цанка, — в глазах детей без преломления отражается реальная действительность.
— Ты думаешь, дети знают, что такое фашизм?
— К счастью, не знают, — ответил старик. — Но почему ты решил, что это написали дети? А если даже и дети, то они бессознательно моментально копируют то, что творят взрослые… В любом случае они вместо большевистской звезды стали рисовать фашистский крест. Это символично, и они тождественны.
— Перестань, дедушка, ты все драматизируешь. Посмотри, как кругом красиво.
— Да, очень красиво… Но мир — это баланс интересов и ценностей. Значит где-то очень некрасиво… Например, у нас в Грозном.
— Так нечего там жить. Поехали ко мне. Переждешь, пока тяжелые времена пройдут.
— Хм, — усмехнулся Цанка, — у меня тяжелые времена были только вне Родины. А в Дуц-Хоте — всё родное, оно легко переносится, как шалости капризного дитя… А эта вся красота — мираж, через недельку это всё приестся и ты обнаружишь вокруг себя каменную, очарованную, бездушную пустыню.
…На следующий день Цанка приземлился в аэропорту Махачкалы. В Грозный самолеты и поезда не отправлялись — Чечня была в блокаде. К вечеру он добрался на такси до городской квартиры, где должен был его ждать Элаберд. Внук был дома, приготовил деду много еды, радовался встрече.
— Дедушка, сегодня потерпи, — говорил озабоченно Элаберд, — а завтра я тебя отправлю в Дуц-Хоте.
— А что терпеть? — удивился Цанка.
— Неудобства, — засмеялся внук. — Света — нет, газа — нет, воды — нет, отопления — нет, телефона — нет… Да и людей в нашем доме осталось совсем мало. Все, у кого есть возможность, поуезжали в Россию.
— Да, путь к независимости тяжел, — серьезно сказал старый Арачаев.
На следующий день Цанка решил пойти в университет, посмотреть, как учится внук. В храме науки царил кошмар: окна были разбиты; в коридорах грязь, пыль, мусор; кучками толпились в углах молодежь; все курили, матерились, имели отвратительный вид. По коридорам вуза ходили люди с автоматами и пистолетами. Видимо, тоже учились. Вокруг университета и в его стенах старый Арачаев не смог найти ни одного атрибута высшего учебного заведения.
— Элаберд, ты здесь больше ни дня не проведешь, — сделал вывод дед, — здесь хорошему не научат, это полная деградация… Поехали домой.
В Дуц-Хоте встретил Язмана.
— Цанка, что ты приехал? Оставался бы у сына. Что здесь творится! Пенсии два года нет, школы пустуют, света нет, воды нет, зарплаты тоже нет, да и работать негде…
— Постой, постой, Язман, — перебил его Арачаев. — Не хнычь… Нам надо терпеть. Путь к свободе не прост!
— Ты что, серьезно говоришь? — удивился Дашаев.
— Очень серьезно, клянусь Богом! — строго ответил Цанка.
— А может нам Москва поможет?
— Москва нам никогда не помогала, а теперь тем более, сама, как перезревший подсолнух, голову склонила.
— А говорят, что Турция нам тоже хочет помочь на зло России.
— Ты, Язман, истории не знаешь. Запомни, насколько Кремль с нами коварен, а Турция в сотню раз с нами хуже… Это неоднократный исторический факт.
— Так что же нам делать? — развел руками Язман.
— Жить, работать, заниматься своим делом, терпеть, и всё образуется, — бодро ответил Цанка.
В тот же вечер Элаберд как бы невзначай бросил:
— А в Грозном идет набор студентов в университет Анкары.
— Эх, Элаберд, отправил бы я тебя хоть куда учиться, да денег нет. Ведь сейчас всё платное, всё дорого… Может к Герзани опять обратиться?
— Так это бесплатное обучение. И проживание и питание бесплатное, лишь бы экзамен здесь сдать.
— Так в чем дело — сдавай.
— А если я уеду, ты как один?
— Обо мне не думай, — закричал Цанка, — я свое отжил… Как-нибудь выживу. Лишь бы ты имел образование и по окончании обучения вернулся домой.
— Не могу я так, — прослезился Элаберд. — Ты один… Как я тебя брошу?
— Да я ведь дома… Кругом родственники, односельчане… Завтра же поедем вместе в Грозный.
В конце августа 1994 года Арачаев Элаберд уехал с группой молодежи в Турцию. В середине сентября Цанка позвонил в Уренгой с переговорного пункта в райцентре Шали.
— Дада, — кричал на другом конце провода Герзани, — ко мне звонил Элаберд из Анкары. У него все хорошо. Я ему часто звоню. Запиши его телефон… Звони только ночью.
— А Артура нашел?
— Да, он служит в Благовещенске, это там же, на Дальнем Востоке. Говорит, что писал к тебе, видно почта не доходит. На будущий год обещал приехать к тебе… Дада, у тебя деньги есть?
— Есть… А дети как?
— Нормально… Ты как там — один? Приезжай сюда, пожалуйста. Давай я приеду за тобой.
— Нет, за меня не волнуйся. Береги детей… До свидания. Цанка спросил у телефонистки, сколько стоит разговор с Анкарой. Оказалось очень дорого. Он вышел на улицу, посчитал последние гроши в кармане. — А-а, зачем мне эти бумажки нужны? Дома мука, сушеное мясо, мед есть — до весны дотяну, а там видно будет… Лучше поговорю с внучком, может в последний раз…
Ровно четыре часа старик ждал заказа. В полночь его разбудили, указали на телефонную кабину.
— Дада, дада — как ты? Как здоровье? — кричал Элаберд. — Я скучаю, я хочу домой. Я боюсь за тебя… Я сильно переживаю, — Цанка понял, что внук плачет, он и сам стонал, сжимал с силой слабые скулы. — Ты что молчишь, дада? Скажи хоть слово!.. — Элаберд, дорогой, обо мне не волнуйся. У меня все отлично, — пытаясь скрыть дрожащий голос, отвечал старик. — Смотри, учись, береги себя…
Они вдруг оба замолчали, на обоих концах плакали.
— Элаберд, прощай, мое время кончилось, — еле выговорил Цанка.
— Нет, нет, дада, твое время не кончилось, — закричал внук, и в это время послышались частые гудки.
…Через месяц началась война…
г. Шали 27.11.98 г.
Заключение
Цанка спал. Во сне мучился, шел в атаку, воевал. Неожиданно прямо перед лицом появилось огромное дуло пушки. Раздался оглушительный взрыв. Спящего старика кинуло к стене, он проснулся — не мог понять где он, и что происходит, только слышал звон разбившихся стекол, и почувствовал едкий запах саманной пыли и гари. Следом раздалось еще много взрывов. Все содрогалось, тряслось. Наконец Арачаев понял, что он в родном доме, в родном селе, и что идет очередной артобстрел.
В разбитое окно хлынул ледяной вихрь, занося с собой облако снега. Несколько колючих снежинок легли на изможденное лицо старика, остудили его сонную прыть, отрезвили, вернули в ущербную до крайности реальность.
Еще один оглушительный взрыв прогремел во дворе. Оконный проем залился ярким заревом. Цанка, тяжело сопя, кряхтя, встал. В мерцающих потемках искал очки, долго не мог надеть резиновый жгут, укрепляющий их на затылке. Потом мучился, открывая наружную дверь.
Дом от взрыва перекосился — все заклинило. С трудом Цанка вырвался во двор. В лицо ударила ночная свежесть и яркий, согревающий свет. Горели сарай, навес, стог сена. Огонь весело играл рыжими языками, с ненасытностью пожирал иссохшие, исковерканные ракетой хозяйственные строения. Еще гремели взрывы, со стоном содрогалась земля, и вдруг, внезапно, все замерло. Стало тихо, мирно, спокойно. Только жалобно потрескивали в огне толстые леса строений.
Без взрывов, без шума, в ночном, одичалом селе стало невыносимо тяжело. Одиночество, в заброшенном поселении — было несносно.
Цанка вспомнил состоявшиеся накануне телефонные разговоры, подумал о внуке и ему стало больно, в груди острыми когтями обхватило гортань. "Нет, он не сделает этого, — подумал старик, — он не на столько глуп, чтобы в столь бесчеловечную войну возвращаться домой. Нет, это просто ошибка". Арачаев гнал от себя страшные мысли, хотел думать о другом, о прошлом, о роднике, о войне, но неотвратимые, гнетущие мысли неотступно преследовали его. Он не находил себе места, ему было крайне тяжело и больно.
Ознакомительная версия.