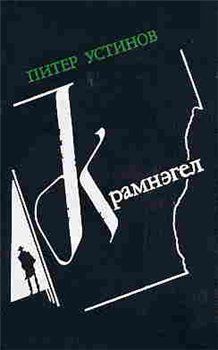— Граф? — произнес он.
— Полагаю, — ответил тот, — что, если люди говорят о необходимости дожидаться, когда пробьет час, они на самом деле рекомендуют вступить в битву, когда исход ее будет уже решен. Они, в сущности, предлагают: «Давайте подождем, когда пробьет час, подождем, чтобы после этого протекло изрядное количество времени, а потом с радостными кликами захватим то, что уже захвачено».
И подавил вспышку возмущения величественным жестом.
— Я говорю, опираясь на авторитет своих предков, находившихся у власти десять веков. Меня неизменно вдохновляют интимные записки Лодовико Первого и политические сонеты Эрменеджильо дельи Окки Бруни, как вам всем известно, моего предка со стороны оплакиваемой матери. Могу сказать, что в основе нашего национального духа лежит реагирование, а не инициатива — в том, что касается военных дел, разумеется. Мы — нация личностей. В мирное время это имеет свои достоинства. Благодаря этому мы дали миру художников, поэтов, архитекторов, механиков, исследователей, каких нет ни у одной другой нации. Однако во время войны это оборачивается недостатками. Мы по-прежнему порождаем блистательных героев, которые идут на смерть, ведя к цели торпеду, и в других отчаянных одиночных операциях. Однако когда мы в массе, блистательности у нас, откровенно говоря, нет. У любой нации есть какие-то слабости. Нашей слабостью является тот прискорбный факт, что, когда итальянцев много, они успешнее сражаются друг с другом, чем с противником. Поэтому меня не удивляет, что в столь блестящей операции жертвой оказался мой дворецкий. В свете этого достижения я ратую за еще большую осторожность, чем полковник Гаретта. Я ратую за немедленное определение этого героического часа, который пробьет, едва первые войска союзников пройдут через деревню. Давайте будем такими же расчетливыми, как на протяжении всей истории; давайте одержим победу, когда всякая возможность поражения будет устранена менее хитроумными союзниками.
Раздались выкрики «за» и «против»; их прекратил сам граф, добавив:
— Немцы действуют, не думая; мы говорим, не действуя. В результате мы выиграем войну. Синьоры, во время войны действовать при каких бы то ни было обстоятельствах в высшей степени опасно.
Капитан Валь ди Сарат был не столь осторожным, правда, и не столь опытным. Когда он говорил, держа в руке трубку из вишневого дерева, его голубые глаза поблескивали.
— Я бы согласился с синьором Conte[27], — сказал он, — будь у меня в роду парочка понтификов, взвод кондотьеров и веди я безмятежную жизнь. Но у меня ничего подобного нет. Я происхожу из рода авантюристов, которые, в зависимости от точки зрения, украсили или запятнали нашу историю в то славное время, когда нас еще не постигло ужасное несчастье стать единой нацией. Следуя своей родовой традиции, я был мотогонщиком, лесорубом, художником-футуристом, фашистским легионером, бандитом, светским фотографом, инженером-мостостроителем, не говоря уж о том времени, когда делал аборты в Шанхае. Теперь я солдат, ведущий жизнь бандита, и намерен внести авантюрный дух в нашу игру. Это возможно, синьор Conte, если мы не станем изображать из себя солдат. Партизаны уже попались в эту западню, старую итальянскую западню иллюзорной силы. У них восемнадцать человек, и они называют себя ударной бригадой. Типично для этого треклятого склада ума, который превратил нас в такое посмешище в Албании и прочих местах. Представьте себе, что я назову имеющихся в моем распоряжении двадцать одного человека Пятьдесят первой итальянской национальной армией освобождения или Divisione Giulio Cesare[28]! Да, вы улыбаетесь, потому что я представляю это в смешном свете, но если б я всерьез дал своему маленькому отряду такое название, вы поверили б в это через полчаса. Ваше воображение создало бы дивизию, корпус, армию под моим командованием, как создавало сорок миллионов штыков у Муссолини. Так вот, давайте не будем изображать из себя солдат. Мы бандиты, ни больше ни меньше, и как бандиты добьемся успеха. Я жил в Чикаго, и поверьте, мы были превосходными бандитами, лучшими из всех, и — как ни странно — не убивали без необходимости, в отличие от настоящих американцев, сирийцев или мексиканцев, потому что были уверены в себе. Поэтому я за грабительскую операцию против немцев в широком масштабе. Наша цель: нажиться и посеять беспокойство. Я знаю, что мои люди готовы к этому, поскольку консультировался с ними.
Тут Филиграни безо всякой необходимости объявил дебаты открытыми и ничего этим не добился, так как все и без того постоянно и многословно перебивали друг друга.
В то время, когда Старый Плюмаж представил на обсуждение ужасно замысловатый, давно задуманный план, по которому Буонсиньори требовалось сигнализировать фонариком из своего окна о действиях немцев (Буонсиньори этому плану решительно противился), в деревню приехал немецкий мотоциклист и вручил Гансу депешу.
Ганс с дрожащими губами объявил двум своим коллегам, что на жизнь Фюрера было совершено покушение.
— Мое предостережение Гельмуту Больману было оставлено без внимания, — негромко произнес Ганс.
— Вот мы и нашли объяснение всем нашим военным неудачам, — сказал Бремиг.
Принц перестал играть и спросил, не означает ли это конца войны.
Ганс вышел из себя.
— Фюрер жив! — выкрикнул он. — Теперь подозрения станут фактами, и виновные будут расстреляны. Раковая опухоль будет удалена из тела нации! Не будет оказано никакого милосердия…
Внезапно Ганс умолк, и в его глазах появилось необычайно коварное выражение.
— Я знал, что напрасно позволил этому итальянцу уйти, — сказал он и, повернувшись к Бремигу, добавил: — В том, что он ушел, виноваты вы, и я этого не забуду.
Бремиг, спокойно осушив еще стакан огненно-жгучей граппы, ответил:
— Вы командир и несете ответственность за все свои решения.
Принц никак не мог понять, что происходит.
— Ничего не понимаю, — устало сказал он. — Какое отношение имеет попытка убить Адольфа Гитлера к тому, что какой-то итальянец повел на прогулку собаку?
— Остолоп! — зарычал Ганс. — А еще офицер разведки. Почему вас не сделали организатором досуга? Идиот.
— Я протестую, — заявил принц, подскочив и вставив в глаз монокль, что придало ему еще более удивленный вид.
— Он протестует! — язвительно усмехнулся Ганс. — Послушайте, вы, простофиля, долины кишат партизанами…
— Там всего два-три бродяги.
— Два-три бродяги! Я говорю, кишат партизанами. Это общенациональная организация. И почему Буонсиньори ушел под нелепым предлогом в час ночи?
— Его собака…
— Его собака вернулась через пятнадцать минут, вся в крови. Где она была? Откуда на ней кровь? От колючей проволоки? Или от чего? И почему Буонсиньори до сих пор не вернулся? И что это был за выстрел? Кто-то из солдат охотился на зайцев?
— Какой-то генерал встретил Геройскую Смерть, — сказал Бремиг.
— Вы убеждали меня не обращать на это внимания, — продолжал Ганс, — и я вас послушал, потому что не видел истинного положения вещей. Вы сказали, один из наших патрулей вроде бы заметил что-то подозрительное. Я виновен в той же мере, что и вы…
— Но Буонсиньори ушел не так уж давно, — сказал принц. — И почему бы собаке не вернуться раньше хозяина? Она знала дорогу.
— Не так уж давно? — выкрикнул Ганс, подбежав к окнам и раздергивая шторы. — Смотрите! Уже четыре утра! Он ушел три часа назад!
Действительно, ландшафт был залит голубым рассветом, тусклая, напоминавшая перышко оранжевая полоска на горизонте еще не освещала его.
— Господи, как быстро летит время под музыку, — сказал принц.
— Погасите свет, — приказал Ганс.
В мрачном утреннем свете трое офицеров переглянулись и поняли: что-то стряслось.
Ганс подошел к двери, открыл ее и позвал:
— Фельдфебель!
Через минуту появился заспанный капрал.
— Заметил, откуда донесся выстрел?
— Никак нет, герр майор, патрули не докладывали ни о чем подозрительном.
— Позови часового и буди всех солдат.
— Сейчас?
— Да, сейчас, и прекрати зевать.
— Слушаюсь, герр майор.
— Мы совершим небольшую экспедицию в долину.
Ночная встреча завершалась. Итальянцы не пришли ни к какому решению, но пребывали в превосходном расположении духа. Они славно отвели душу, и принятая резолюция обязывала их к «неусыпной бдительности».
Когда они обменивались церемонными рукопожатиями, одному из партизан показалось, что в оливковой роще что-то движется. Получив это сообщение, Старый Плюмаж поднес к глазам бинокль и напряженно вгляделся. Сперва это казалось обманом зрения, потом в перекрестье бинокля появился осторожно ползущий человек.
— У вас глаза помоложе, — прошептал Старый Плюмаж, отдавая бинокль Валь ди Сарату.