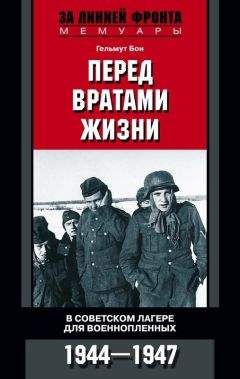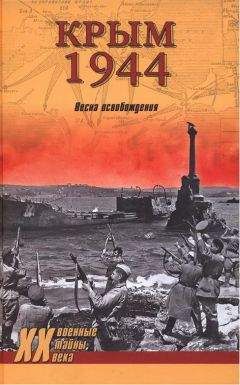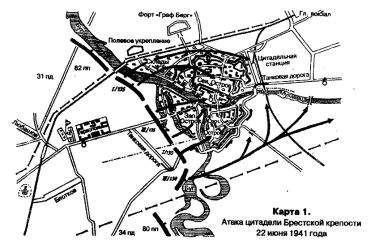Ознакомительная версия.
— С этого дня все должны ходить в баню. Тяжелобольные тоже!
Остальные пленные помогали переносить по грязной, разбитой дороге лежащих на носилках тяжелобольных в баню, находившуюся в трехстах метрах от барака. Эти бедняги не могли даже стоять на своих тощих, как спички, ногах, по которым стекали зеленоватые фекалии, когда санитары пытались их помыть. Некоторые умирали прямо здесь в бане на скользких решетках, лежавших на кафельном полу. В этом же помещении, где стояла густая пелена пара, мылись и остальные военнопленные, которые стремительно худели с каждым днем.
С каждой очередной баней и мои ребра пугали меня все больше и больше, все четче проступая сквозь синеватую кожу.
В то утро, когда я ночью не успел добежать до уборной и, стуча зубами от холода, выскребал дерьмо из своих трусов, я решил, что с меня довольно. Я сказал Антону:
— Я не пойду больше на работу, на улицу. С каждым днем я вешу все меньше и меньше. Ты думаешь, я хочу здесь погибнуть, незадолго до того, как майор Назаров снова затребует меня к себе?
— Я не могу тебя оставить в баракё. Русские пересчитывают у меня каждого человека. Может быть, ты хочешь лечь в изолятор?
В изолятор? Несколько секунд я раздумывал.
Из тех двенадцати — пятнадцати человек, которые постоянно находятся в изоляторе, каждую ночь несколько умирают. Там стоит нестерпимая вонь от ночных горшков и от неперевязанных ран. Там беспрерывно, днем и ночью, кашляют и плюют. Вот только на работу никому не нужно выходить. Это уж точно!
— Хорошо! — сказал я. — Я настаиваю на том, чтобы меня осмотрел врач. А до тех пор я на всякий случай останусь в изоляторе!
Какое мне дело до того, что Франц из Дортмунда говорит:
— Дружище, в изолятор? Да там ты изойдешь поносом до смерти!
Но я не верю в то, что могу там умереть.
Антон входит в изолятор вместе со мной:
— Одному человеку с верхних нар спуститься вниз, живо! — И, обращаясь ко мне, добавляет: — Если ты будешь лежать внизу, они насрут тебе прямо на голову. Курвы!
Некоторые больные в изоляторе недовольно ворчат из-за того, что мне разрешают лечь вверху.
Но мне все равно, меня это не волнует. Я хочу, чтобы случилось то, что я затеял. Даже если я сам не знаю, пойдет ли мне на пользу то, что я намерен сделать. Я сам, да и никто другой здесь вообще не знает, чего он, собственно говоря, должен хотеть. Но даже такое решение, как это, имеет свое значение. Поэтому я хочу добиться кое-чего!
И я настаиваю на этом: совершенно верно, я хочу в изолятор! Я хочу лежать вверху! Справа в углу у окна!
Там мне снится сон, который будет еще часто сниться мне во время плена. Снова и снова. Но впервые он приснился мне в изоляторе.
Я, совершенно лысый и одетый в лохмотья, вхожу в свой родной дом.
— Садись за стол и ешь! — говорит мой отец. Отец снова живой, удивляюсь я.
Все стоят вокруг меня, а я смущенно держу в руке ложку.
— Ешь же! — говорят они мне.
— А разве я не должен сначала рассказать? — спрашиваю я.
— Ешь же! — Скрестив руки на груди, они стоят вокруг меня.
— Но я должен скоро снова уйти. Разве вы ничего не хотите услышать от меня?
Стоящие на столе торты выглядят так соблазнительно. Можно ли мне одному все это съесть?
Но я еще раз вскакиваю:
— Сначала я должен хотя бы рассказать вам, как попал в плен!
Но они качают головой. Мне становится грустно. Но затем меня охватывает ярость.
— Разве то, что я испытал, не имеет никакого значения?
И в этом месте моего сна я всегда просыпаюсь. Что же такого я хотел им рассказать?
Видимо, я должен рассказать о том, каким счастливым выглядел тот пленный, который накануне ночи своей смерти стоял нагишом в снегу между уборной и изолятором.
Я пробирался в сгущающихся сумерках к уборной, и тут он возник передо мной. Своими перепачканными фекалиями худющими пальцами он тщетно пытался расстегнуть верхнюю пуговицу своей рубашки.
— Помоги мне, камрад! Ради бога, помоги мне, камрад!
Словно вонючее привидение, он, шатаясь, подошел ко мне. Вытянул свою цыплячью шею с застегнутой рубашкой.
— Ну, покажи-ка! — покровительственно-снисходительно сказал я. Вот насколько плох человек.
И я еще заглянул ему в глаза, когда он посмотрел на меня своими сияющими от радости глазами:
— Я благодарю тебя, камрад! Я так тебя благодарю!
В своих слишком больших стоптанных фетровых башмаках он побрел дальше в снег.
Когда я возвращаюсь назад из уборной, то вижу, что он, как голая обезьяна, сидит на корточках и снова благодарно улыбается мне. Он что, сошел с ума? Он пытался почистить снегом обгаженную рубашку? Совсем нет, он делал самое необходимое. Оказывается, это Антон выгнал его со словами:
— Если через пять минут рубашка не будет чистой, я вышибу тебе мозги, грязная свинья!
А последняя пуговица на рубашке была препятствием на пути к спасению.
Когда я расстегнул ему пуговицу, перед этим несчастным, уже отмеченным печатью смерти, вновь открылся путь к спасению.
Это и есть высшее человеческое счастье!
Может быть, я должен рассказать о том, как я был счастлив, когда Зеппи дал мне свой хлеб для подсушивания.
Зеппи лежал рядом со мной в изоляторе. Ему можно было есть только сухой хлеб. И он дал мне семь тоненьких ломтиков недопеченного хлеба, чтобы я их подсушил. Я аккуратно разложил на плите непропеченный мякиш. Конечно, Зеппи ничего не заметил бы, если бы я быстренько сунул себе в рот один ломтик.
Но этого не будет. Не может быть, чтобы я посмотрел хотя бы на один ломтик его хлеба так, как будто бы я мог его съесть.
Разве в нас уже не осталось ничего святого?
Доверие — наилучшее качество человека!
Вы не хотите слышать никаких нравоучений, говорите вы? Вы уже сыты по горло чтением таких тезисов по отношению к доверию: это же наивысшее, это наилучшее качество, это же счастье.
Но к таким размышлениям приводят усталость от лежания на нарах и трудности пережитого. Это было нечто большее, чем просто опасное приключение. Я хотел бы просто жить лучше в будущем. Без страха! До последнего вздоха жить без страха!
Вот об этом размышлял я, когда они умирали рядом со мной и подо мной в изоляторе. Я думал о лучшей жизни, когда, лежа с высокой температурой, слышал, как они до полусмерти избивали Пчелку Маю, хотя никто не крал хлеб.
Страстное желание уехать отсюда овладело мной, когда стало известно, что больных отправляют поездом. Включая и тех, кто находится в изоляторе. Если они еще могут передвигаться!
Уже утром в лагере царило необыкновенное волнение. Но сначала мы должны были сходить в баню.
— Что, в бане нет горячей воды? — орал Антон. — Но в любом случае я не позволю вам уехать отсюда грязными! Вы что, хотите опозорить мой лагерь?
И только перед самым отправлением поезда пошла горячая вода. Зато теперь мы уже не успевали пообедать.
— Послушайте, ребята! Да они сделали это специально! Таким способом они экономят шестьдесят четыре порции обеда!
— Да плевать! Даже если они восемь дней не будут давать нам пожрать, только бы уехать отсюда!
— Вы еще не раз вспомните Антонов лагерь! — сказал на прощание Антон. На этот раз он пришел без дубинки. И мы, шестьдесят четыре человека, встали в строй. На самом деле нам надо было бы плюнуть в рожу этому убийце и насильнику.
Он бы ничего не смог нам сделать. Конвоиры из нового лагеря уже приняли нас под свою охрану. Но мы спокойно выслушали его болтовню:
— Ну, ладно, желаю вам всего хорошего!
Мы даже пожали ему руку на прощание.
— Направо! Шагом марш!
И колонна из шестидесяти четырех человек заковыляла в сторону станции.
— У тебя же есть мой адрес? — кричит Франц из Дортмунда, стоящий у дороги.
— Повезло вам! — говорит Пчелка Мая.
— Если только вас не отправят в штрафной лагерь! — пытается напугать нас парикмахер.
Неужели это уже гудок паровоза? Но мы же еще не дошли даже до водонапорной башни!
Словно взбесившийся пес, перед зданием вокзала бегает старшина, полы его шинели полощутся на ветру.
— Давай! Давай! Давай!
Паровоз гудит еще раз.
Старшина размахивает белыми перчатками с отворотами, как майор на плацу во время состязаний по стрельбе.
— Давай! Давай!
Новые конвоиры тоже кричат.
Проклятие, в спешке они оставили мешок с продуктами! Мы должны были взять с собой сухой паек на два дня. Сразу было ясно, что они постараются надуть нас с питанием! Отличные мясные консервы, которые они упаковали на наших глазах! И еще хлеб!
Да теперь уже все равно! Когда паровоз дает третий гудок, уже никого нельзя удержать. Напрямик через поле по непролазной грязи все бросаются к поезду. Падают. Снова поднимаются.
Ознакомительная версия.