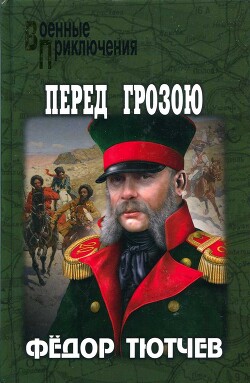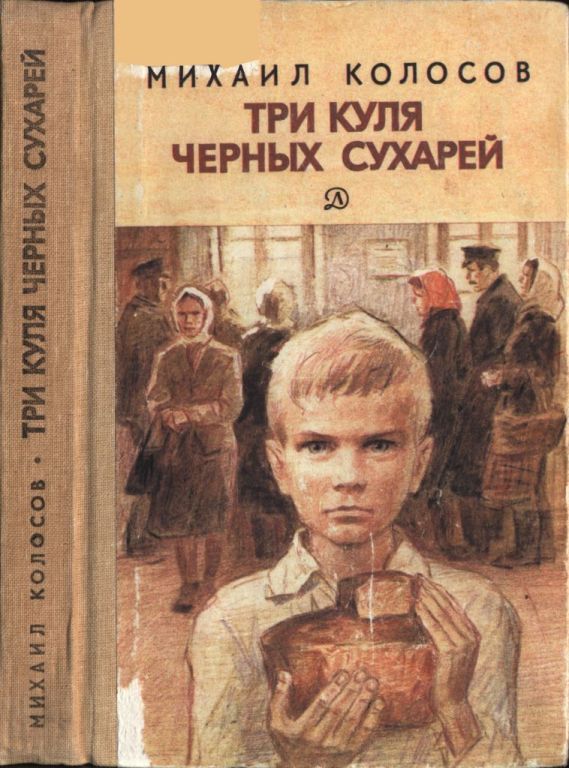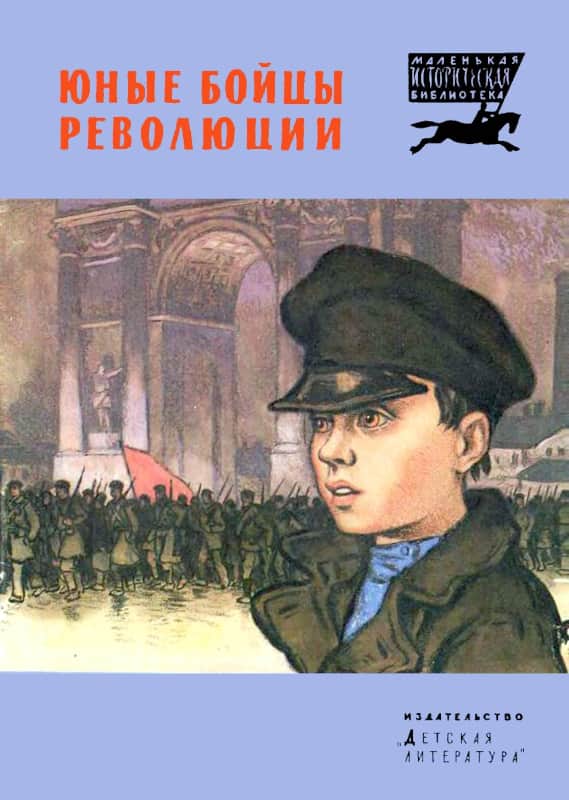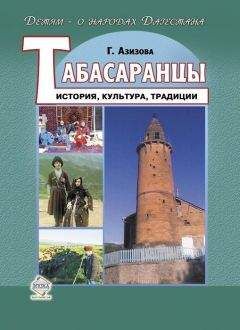— А когда мы на большую дорогу выйдем?
— Да как сказать, все от коней зависит. Ежели кони не сдадут и никакой задержки в пути не будет, то завтра еще засветло Терек перейдем, а поздно к вечеру у "Разоренного поста" будем, первый казачий пост на большой дороге. Там и заночевать можем.
— Ну а как думаешь, Дорошенко, — полюбопытствовал Спиридов выведать заветные мысли казака, — проедем мы благополучно или нет?
— Это уж, ваше благородие, от Бога, Он один, Царь небесный, знает. Будет Его милость к нам — проедем, а нет — ничего не поделаешь. Во всяком разе, думаю, что нам надо куда как осторожными быть. Все равно как лисица на облаве таится, чтобы и нос, и уши, и все прочее по ветру держать, потому надо правду говорить — опасное дело мы затеяли, на редкость опасное.
— Ты, стало быть, боишься? — нарочно, чтобы испытать старика, спросил Петр Андреевич.
Дорошенко угрюмо насупился.
— Если и боюсь, то не за себя; первой всего, за ваше благородие, затем за команду, а о себе мне думать много не приходится. Человек я старый, пожил достаточно, все равно скоро так ли, иначе, а умирать придется, стало быть, и опасаться особенных причин нет.
Дорошенко говорил спокойно, без всякой рисовки, убежденным тоном, и, слушая его, Спиридов ни на минуту не сомневался в том, что как он говорит, так и думает. С таким человеком не могла быть страшной никакая опасность.
"Должно быть, наши древнерусские богатыри были в подобном роде, как этот Дорошенко, — подумал Спиридов, проникаясь все большей и большей симпатией и уважением к старому казаку. — Вот бы в Петербург привести такого. Впрочем, там он мог бы показаться чересчур неуклюжим, смешным и даже жалким. Там он наверно бы на первых порах растерялся и чувствовал бы себя как нельзя больше скверно".
— О чем же ты еще говорил с твоим кунаком? — спросил Спиридов, которому хотелось побеседовать с симпатичным для него стариком.
— Разное говорили, — как бы с неохотой отвечал тот. — Он мне про сына моего сказывал.
— Ну, что ж твой сын, здоров, кланяется тебе?
По лицу старика пробежала угрюмая тень, и в глазах отразилось выражение глубокой затаенной тоски.
— Убит сын-то у меня, где уж там кланяться, — глухим, слегка дрогнувшим голосом произнес Дорошенко.
— Убит? — воскликнул Спиридов искренне и горячо принимая к сердцу тяжкое горе, постигшее Дорошенко.
— Так точно, убит. Последний. Три у меня было, и ни одного не осталось. Старшего-то давно убили. Еще при графе Паскевиче, когда аварцев замиряли. Другой тоже, лет пять тому назад, изволите знать, когда генерал Таубе под Алты-Буюном первого имама, Кази-муллу, расчехвостил; а третий вот теперь, три дня тому назад, за Тереком пропал. Перестрелка была на линии с абреками, он у меня шустрый, молодой, завсегда впереди, вот его и срезали. Говорят, в самое сердце пуля угодила, даже и не крикнул… Вот делото какое, остались мы теперь со старухой круглыми сиротами на старости лет.
— Ты, стало быть, до сегодняшнего дня и не знал ничего, пока с кунаком не встретился?
— Так точно. Где знать? Пост-то, где сын служил, от нашей штаб-квартиры далеко, жди, пока еще весточка-то придет. Кабы не кунак, я и доселя ничего бы не ведал.
— А может быть, кунак-то твой еще и врет, слух пустой, мало ли бывает, — попробовал было утешить Петр Андреевич Дорошенко.
— Нет, верно. Кунак-то как раз на самом посту был, он мирный, вот чеченцы и просят его, когда нужно переговоры вести, насчет тел, чтобы тела выручить татарские, которые, значит, у наших в руках остаются; говорит, своими глазами видел, как и хоронили его, Петра моего. Словно, грит, живой лежал в гробу-то, лицо такое спокойное, светлое… Известное дело, ежели в сердце, минуты не живет человек, щелк — и нет.
Дорошенко говорил, по-видимому, совершенно спокойно, только бледность лица, унылый взгляд полупотухших глаз, прикрытых ресницами, и глухой, срывавшийся иногда на полуслове голос выдавали его глубокое душевное состояние.
— Старуха-то узнает, вот убиваться-то будет. Любимец ее. Надышаться не могла, бывало: Петро, Петро — только и разговора, что про Петра. Как на линию уходить ему, она три дня ревмя ревела, как легла на лавку ничком, так и не вставала. Думал, ума решится. Сердце материнское, должно, чуяло… Эх, горе наше сиротское… Ну, как я ей скажу теперь… Впрочем, она, может быть, и знает? На грех, и меня там нет, некому и разговорить ее, урезонить, совсем ополоумит старая… Добре любила она его. Как кто из наших с линии придет, хоша б и не с того поста, где Петро служит, сейчас она в рысь пускается. Прибежит и давай выспрашивать про него: что, как, здоров ли, как ему служится; надоест просто расспросами, до одури доведет. Под конец ее уже гнать начнут, она все свое, такая ли старуха заботная, не дай Бог.
Спиридов слушал бесхитростный рассказ Дорошенко, в каждом слове которого слышалась глубокая, потрясающая драма. Он искал в себе слова утешения и не находил, инстинктивно чувствуя всю ненужность каких бы то ни было фраз, всю их пошлость по сравнению с простотой и величием души, с которыми Дорошенко, как настоящий герой, принял на себя обрушившееся на него несчастье.
— Слушай, Дорошенко, — нашелся сказать Спиридов, — как только мы доедем до первой станицы, я отпущу тебя домой, а чтобы ты скорее мог доехать, найму тебе почтовых до самой твоей станицы.
Это замечание, по-видимому, обрадовало старика.
— Вот за это большое вашему благородию спасибо. Оно, конечно, кроме меня, никто старуху мою не успокоит, одна-то она там таких делов натворит, не приведи Бог… Чего доброго, помрет еще. Может статься. Ума хватит.
В последних словах, сказанных как бы шутливым тоном, Спиридову послышалась глубокая, безграничная любовь этого грубого, угрюмого казака к оставленной им где-то далеко в станице его одинокой подруге.
"А еще говорят, будто эти люди не умеют любить, не знают никакой нежности, — мелькнуло в уме Спиридова. — А что же это, как не самая глубокая, горячая любовь, трогательное нежное чувство?.. Нет, видно, человеческое сердце одинаково бьется как у нас, людей белой кости, так и у них, у этих, как мы иногда брезгливо выражаемся, полудикарей. По-видимому, весьма простая истина, но как мало доступна она многим и очень многим людям, мнящим себя глубоко образованными и развитыми".
X
Чем дальше подвигались казаки, тем внимательней и зорче становились они, чутко прислушиваясь к каждому шороху, ко всякому долетавшему до них звуку. Дорошенко, как самый опытный, ехал далеко впереди, держа наготове ружье и весь превратившись в слух и зрение. Теперь, когда дело требовало от него всего его внимания, он на время как бы забыл о своей утрате; только где-то там, в глубине его сердца, не перестающей болью ныла и болела свежераскрытая рана.
Дорога шла, то подымаясь круто вверх, то сбегая вниз, в заросшие травою долины, местами пересекала горные потоки или взвивалась по краю глубоких пропастей, с тем чтобы через какой-нибудь час углубиться в узкое, как коридор, мрачное ущелье с отвесными стенами уходящих под облака вершин.
Время от времени, где было удобно, один из казаков слезал с коня и с ловкостью ящерицы, проворно и без всякого шума, взбирался на ближайшую остроконечную вершину и оттуда, осторожно выглядывая из-за камней, зорко осматривал окрестность, выслеживая, нет ли где поблизости аулов или пастухов с их огромными стадами овец.
В одном месте Шамшин, самый зоркий изо всех, заметил на горизонте небольшую конную партию, гуськом подвигавшуюся через обнаженный кряж синеющих вдали гор. Он долго и зорко высматривал медленно ползущих, подобно мухам, всадников, безошибочно сосчитал их число, и только тогда спустился вниз, к поджидавшим товарищам, когда для него не оставалось никакого сомнения о направлении, по которому двигалась шайка. Подойдя к Дорошенко, он обстоятельно и толково рассказал ему о всем замеченном.
— Ты говоришь, человек двадцать? — переспросил Дорошенко, внимательно выслушавший слова Шамшина. — И со значком? Ну, стало быть, это не простые разбойники, а шамилевское ополчение, чтоб ему лихоманок на его бритую голову! Ишь, расползлись, окаянные, по всем горам, словно тараканов выморозило их. Это не иначе как из Карталинского аула, хорошо, что мы в ту сторону не бросились, как раз бы в лапы им угодили.