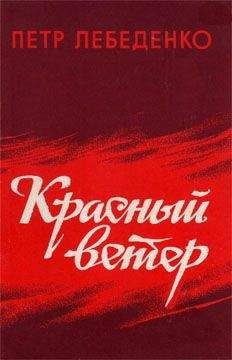Денисио часто поражался богатой игре ее воображения, но все очень хорошо понимал. Понимал все ее чувства, все движения ее души. И порой думал, что никогда еще не встречал человека, как Эстрелья, с такой цельной и непосредственной натурой. «И это после всего того страшного, что было ею пережито», — думал Денисио, глядя в ее ясные и в то же время печальные глаза.
А сама Эстрелья не меньше поражалась удивительной человечности Денисио, в котором непонятным для нее образом уживались такие черты его натуры, как нежность, доброта и ненависть, любовь и какая-то необузданная ярость. Вот он рассказывает о своем отце, которого с необыкновенным теплом называет Денисовым-старшим, или о своей далекой родине, и Эстрелья видит в его глазах столько нежности, столько глубокой боли из-за разлуки с ними, что в ее душе невольно поднимается ревность, и она с великим трудом ее гасит, хотя и не совсем до конца… Но стоит Денисио заговорить о фашистах — он мгновенно преображается. Не только глаза, но и все лицо его становится жестким, резким, не остается ни одной мягкой черточки, даже голос его меняется, и Эстрелья думает, что это уже голос не Денисио, а совсем другого человека — не то Риоса Амайи, не то мексиканца Хуана Морадо, не то баска Эскуэро…
О себе Эстрелья думает так: «Я окончательно сошла с ума, Денисио, Денисио… Ни одной минуты без него… Даже когда он далеко от меня, я все равно ощущаю его близость, прикосновение его рук, их тепло… И тянусь, тянусь к нему — и душой, и телом… Что же это, как не сумасшествие?.. Если бы ты знала, пресвятая дева Мария, сколько счастья ты ниспослала на мою долю!..»
3
До рассвета оставалось около двух часов, уже чувствовалось, что ночь близится к концу: один за другим тускнели, а то и вовсе гасли звезды-костерки, редела доселе плотная синева, все сильнее тянуло с гор прохладой.
И чаще приходилось встряхивать головой, чтобы отогнать накатывающиеся приступы сна, так некстати смежающего усталые веки.
Через час-полтора к машинам придут техники, мотористы, оружейники — закипит обычная военная жизнь: тишина разорвется гулом моторов, рассечется трассами очередей опробываемых пулеметов.
А потом, эскадрилья за эскадрильей, пойдут в неравный бой летчики истребительного полка Риоса Амайи. Пойдут в неравный бой американец Артур Кервуд, француз Арно Шарвен, мексиканец Хуан Морадо, испанцы Фернандо и Кастильо, русский летчик Денисио… Денисио… Кому из них не суждено будет вернуться на свой аэродром? Кто станет очередной жертвой?
Денисио часто говорит: «Когда я ухожу в бой, ты не должна думать о плохом. Слышишь? Думать о плохом — плохая примета…»
Нет, она о плохом не думает. Бывает, что Денисио прилетает самым последним. Все уже заруливают на свои стоянки, уже слышится смех и веселый говор техников и мотористов, радующихся за своих летчиков, а Денисио все нет и нет. С тоской и надеждой вглядывается в небо и прислушивается к нему техник машины Денисио, неподалеку от него, сжав на груди руки с переплетенными пальцами, стоит Эстрелья и улыбается…
Она не думает о плохом. С каждой секундой ей становится тяжелее, сердце болезненно сжимается, в глазах появляется такая же тоска, как у техника, но она гонит прочь-тревожные мысли и непохожим голосом говорит по-русски и технику и себе: «Тому Денисио мы побьем заднитсу за опозданьитсу…»
И фальшиво смеется.
И техник тоже вроде как смеется, а сам про себя говорит: «Иди ты к черту со своими шуточками!»
Потом слышится вначале слабый, а затем все усиливающийся гул мотора, и наконец появляется «моска» Денисио. Техник подходит к Эстрелье, неуклюже обнимает ее за плечи. И теперь уже они оба смеются по-настоящему. Техник, подражая Эстрелье, произносит: «Да, да, мы побьем заднитсу за опозданьитсу…»
* * *
Ей вдруг показалось, будто ее слуха коснулся слабый, едва различимый звук, похожий на скрежет металла. Она осторожно приподняла голову, замерла, вслушиваясь во вновь наступившую тишину. Наверное, это ей только показалось. Или издалека, оттуда, где расставлены аэродромные посты, и донесся этот звук. Может быть, кто-то там неосторожно звякнул затвором карабина, ногой наступил на осколок давно разорвавшейся бомбы… А здесь все в порядке. Ни одной живой души вблизи самолетов, машины с наброшенными на капоты чехлами тоже словно спят, набираясь сил для предстоящих боев. Как и летчики, досматривающие последние сны…
Эстрелья совсем было успокоилась и хотела уже опять присесть за камень-валун, но в ту же секунду звук повторился — такой же слабый и точь-в-точь похожий на прежний. Эстрелья быстро повернула голову в сторону, откуда донесся звук, и, затаив дыхание, долго всматривалась в редеющую темноту. Ничего подозрительного. Винты отбрасывают на землю полупрозрачные тени, под крыльями машин тени плотнее, но все же и там можно различить оставленные с вечера пустые ящики из-под пулеметных лент, опорожненные масляные бидоны, маленькие железные стремянки.
Однако овладевшая Эстрельей тревога не исчезала. И не только не исчезала, а еще более усиливалась каким-то неясным предчувствием беды, необычной взволнованностью, которая так часто приходила к Эстрелье в минуты острой опасности.
Она чуть было не вскрикнула, внезапно увидев согнутую человеческую фигуру, осторожно, по-воровски прокрадывающуюся ж стоявшему шагах в пятнадцати от нее самолету. Человек был в комбинезоне, с непокрытой головой, и, хотя лица его Эстрелья различить не могла, что-то в нем показалось ей очень, знакомым.
Человек направлялся к машине Хуана Морадо. Техника и моториста этой машины Эстрелья знала хорошо — оба, словно на подбор, отличались низким ростом, оба были тщедушными, как мальчишки, а этот почти двухметрового роста и широк в плечах, этот был…
«Да это же летчик Бионди! — Эстрелья облегченно вздохнула, будто освобождаясь от нежданно-негаданно свалившейся на нее тяжести. — Это же наш летчик Бионди! — еще раз мысленно повторила она. — А я-то всполошилась, представив себе бог знает что!»
Бионди между тем, подойдя к самолету Хуана Морадо, остановился и снова начал осматриваться. Повернет голову в одну сторону, в другую, прислушается, потом опять, теперь уже всем корпусом, обернется влево, вправо, и вся его массивная фигура кажется до крайности напряженной и настороженной, как у человека, который задумал совершить что-то важное, но никак не может на это решиться, чего-то опасаясь.
— Святая мадонна, — шепчет Эстрелья, — зачем Бионди сюда пришел, что ему здесь нужно и почему он так странно себя ведет?!
То облегчение, которое Эстрелья почувствовала, узнав летчика Бионди, вновь сменилось чувством тревоги. И тревожил ее не столько сам факт появления в неурочное время Бионди у самолетов (и прежде бывало: то один, то другой летчик наведается ночью к своей машине), сколько его поведение. Почему он подошел к самолету Хуана Морадо, а не к своему истребителю? Чего он боится, все время оглядываясь по сторонам и прислушиваясь? Какая причина заставляет его быть таким настороженным, словно он опасается, что его могут увидеть и услышать?
Возможно, если бы Эстрелья увидела не Бионди, а какого-нибудь другого летчика, она реагировала бы на это совсем иначе. Но Бионди… Эстрелья издавна питала к нему острую неприязнь. Он был единственным летчиком в полку, кто не только не вызывал в ней уважения, но и внушал недоверие. Ей казалось странным и непонятным, почему на счету Бионди нет ни одного сбитого самолета противника. Ни одного за всю войну!
Когда она однажды заговорила об этом с Денисио, тот сказал:
— Что ж, так бывает… Есть летчики, которые не обладают способностью проявить себя индивидуально. Может быть, Бионди больше думает о том, чтобы вовремя прикрыть товарища, отвлечь на себя противника, помешать противнику удачно атаковать одного из нас… Это ведь тоже очень важно. Не собьет он — собьет его товарищ, а одним фашистом все равно станет меньше…
— А разве ты, Хуан Морадо, Мартинес, Кастильо не думаете о том, чтобы вовремя прикрыть друг друга, отвлечь на себя противника, помешать ему удачно атаковать одного из вас? — недоверчиво спросила тогда Эстрелья. — Как же вам удается делать и то, и другое: и вовремя приходить на помощь друг другу, и сбивать фашистов?
Денисио пожал плечами:
— Все летчики разные, Эстрелья. И каждый воюет так, как умеет… Я не питаю к Бионди особой любви, но не могу сказать, что он трус.
— Ты не питаешь к Бионди не только особой любви, ты вообще не питаешь к нему никаких других чувств, кроме неприязни. Так же, как и я. И оба мы знаем почему.
Да, оба они знали, почему у них издавна сложились такие, мягко говоря, натянутые отношения к Бионди. И сейчас, наблюдая за ним, Эстрелья с отчетливой ясностью вспомнила тот день, когда после тяжелого боя на аэродром прилетели Хуан Морадо, Денисио и Павлито. Павлито в том бою расстрелял все патроны, его «ишачок» был весь продырявлен, и два фашистских истребителя, словно под конвоем, вели его на свой аэродром. Павлито летел, не сопротивляясь, делая вид, будто понял всю безнадежность своего положения и решил сдаться на милость победителя. А сам уже вынес твердый и окончательный приговор и самому себе, и фашистам: вот так, под конвоем, и прилетит он к «победителям», и пойдет на посадку, предварительно наметив сверху подходящую для себя цель — побольше стоявших близко друг от друга вражеских машин. Он врежется в них своим израненным «ишачком», он сделает из них настоящую кашу, и это будет его последней песней в Испании…