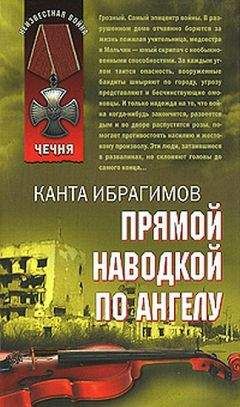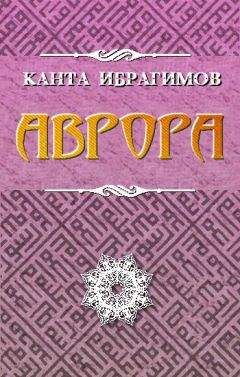Ознакомительная версия.
— У тебя может и много, а я при чем тут?
— Ой, ты у нас ангел, — лукаво сщурился Бушман, потом резко улыбнулся, — Теперь все, Цанка, отстрадали мы, еще немного и уплывем мы с тобой в даль далекую, благодатную.
— У меня одна благодать — это моя Родина, мои горы, и другой благодати мне не надо. Смени очки, если не видишь и посмотри как здесь красиво.
— Ой, Цанка, за больное задел. Эти очки, грешным образом добытые, никак снять не могу. Но осталось недолго, чуть-чуть. Ты, Цанка, угомонись напоследок, успокойся, смирись с Божьей волей и все будет хорошо, — ласково сказал физик.
— Что "будет хорошо" — вскричал старик, — Я все потерял! Все! Как я могу быть спокойным? Как?… Пошел вон! Будь вы все прокляты!
— У-у-у-у, — завыл Бушман, — ну ты совсем плохой стал. Ну, потерпи маленько, чуть-чуть осталось.
— Пошел прочь! — вновь завопил Арачаев.
— У-у-у, — вновь протянул Андрей Моисеевич, и неожиданно, также веселясь, взлетел, сделал веселый пируэт в воздухе, вернулся, — До скорой встречи, Цаночка, — махнул он ручкой и исчез.
"Вновь я один остался, вновь я живой", — печально подумал Цанка. Он лежал с закрытыми глазами в перемешанной снегом грязи. Он еще дышал, и чувствовал, как родная земля пахнет сыростью и холодом. Он не хотел вставать, он не мог встать, он уже ничего не хотел, ему все опостылило, жизнь надоела, измучила его до предела сил. Наверное впервые в жизни он ощутил полный покой, он не чувствовал тяжести своего тела, и никакая боль его не беспокоила, все стало безразличным, чуждым, отстраненным, даже собственное тело. Он слышал слабый, частый стук своего сердца, и еще он слышал свое прерывистое дыхание: оно становилось все реже и реже. Цанке стало спокойно; у него не было сил думать, жить, переживать.
Подул резкий, порывистый, холодный ветер. Капельки ледяной влаги увлажнили увядшее лицо. Пошел снег; он был мокрый, тяжелый. Цанке казалось, что он слышит, как снег медленно ложится на его непокрытую лысину. Снег на лице таял и маленькими ручейками стекал по глубоким морщинам старческого лица. Кончиком языка он почувствовал пресную влагу. Ледяная сырость вместе с вдохом проникала вовнутрь. Снег шел все больше и больше, и старику казалось, что уже не отдельные хлопья падают на землю, а целые слои белого безмолвия накрывают его голову. Было тихо, спокойно. Это безмолвие ублажнило его, он с облегчением ждал конца.
Порывы ветра стали резче и до его сонного слуха донесся далекий, знакомый вей.
— У-у-у, — завыли вновь голодные звери и напомнили этим последние крики Бушмана.
— "У-у-у" — разнеслось по горам страшное, многократное эхо.
Снова завыли. Теперь совсем рядом. Током прошибло сознание старика. "Это ведь шакалы или что еще хуже одичалые собаки. Они ведь съедят меня и внука… Меня то на здоровье, а вот моего любимого внука — нет… Нет. Это невозможно. Я должен его похоронить, я должен его достойно предать земле. Это последнее мое мучение. Это последнее дело на этой земле… Я должен…"
К старику вернулось волнение, а вместе с ним и сознание. Он вновь услышал, как учащенно стало биться его сердце, глубоким стало хриплое дыхание.
— О, Боже, дай мне сил. Дай терпения и мужества. Помоги мне, — шептал лежа Цанка.
Он уперся руками в скользкий, морозный грунт, тяжело присел. Теперь он отчетливо услышал, как воют шакалы. Это было совсем рядом.
— Одни шакалы ушли, другие пришли, — прошептал злобно он. Старик длинными, худыми руками уперся в землю, сделал огромное усилие над собой, встал. На непослушных ногах он подошел к привязанному к толстому ореху внуку. От искривленного в ужасной позе одервенелого тела веяло отчужденностью, страхом. С усилием Цанка подошел к мертвецу, дотронулся до густых, спекшихся в крови волос и только тогда ощутил родную плоть.
— Ва-а-ха, — простонал он, и тихо заплакал.
Развязать смерзшие, толстые путы он не смог, и пошел в дом за ножом. В дверях стукнулся о что-то тяжелое, металлическое. Долго искал спички, дрожащими руками, с трудом зажег керосинку. Оказывается ударился он об забытый или кем то брошенный автомат. Огляделся, в ставшей чужой, комнате. На стене не было старинного ковра ручной работы, двустволки, деревянного ящика с Кораном, и серебряного, именного кинжала его прадеда. Большой сундук был раскурочен, перевернут.
— Все унесли подонки, — проворчал он вслух, — армия мародеров и алкоголиков. Безбожники проклятые!
Когда Цанка, держа в руках керосиновую лампу и кухонный нож, вышел во двор, несколько хищных теней бросились в разные стороны со двора.
— Ух, твари поганые, — срывающимся, сиплым голосом крикнул он.
К ночи ветер усилился. Жестко ударили в лицо снежинки. Мороз закрепчал, снег стал легким, быстрым, игривым. Огонек в керосинке задергался, заколыхался под порывом ветра, но выстоял, слабо осветил небольшой участок двора. Цанка обрезал все веревки, положил внука на землю. Упал пред ним на колени. Плакал, гладил старыми ладонями безжизненное, изуродованное лицо внука. Будто бы хотел запомнить на всю долгую, оставшуюся жизнь черты любимого потомка. Снегом очистил видимые части тела и волосы от спекшейся крови. Потом сквозь слезы долго читал упокойную молитву. После этого несколько успокоился.
— А честно говоря, — обманывал он сам себя, — счастливым оказался мой внук. Я постараюсь его как положено похоронить… Даже повезло ему. Всю грязь земную он больше не увидит. Ведь говорят, что Бог раньше забирает лучших. Дай Бог, чтобы мой любимый внучек попал в рай… А куда еще ему попасть? Что он мог сделать грешного на этом свете? Это я старый грешник. Эх, чего я только на этом свете не видел, чего я только не сотворил. Видимо за мои грехи земля меня не принимает… Неужели на том свете я не увижу своего внука? А есть ли он? Ах, старый болван, за такие мысли Бог и послал мне в жизни такие испытания… А может внучек там меня уже ждет? Он обо мне там позаботится… И все-таки, какая я сволочь! Старый болван, век прожил, а мысли все те же грешные. Даже теперь все себе выгоду ищу, все взвешиваю, хочу "соломку" себе подстелить, даже в смерти внука хочу найти пользу… Почему я такой? А может все люди такие?!
Снег толстым слоем покрыл почву. Земля стала белой, чистой. Небо черное, бесконечное, страшное. Обречено завыли шакалы, где-то лаяла одичалая собака.
Совсем рядом, на белоснежном фоне задвигались угрожающие тени. Блеснули мертвецким холодом глаза зверья. Шакалы уже не кричали, они трусливо, поджав хвосты, подталкивая друг друга небольшой стаей приближались к старику.
— Нет, что вам кажется — не правда. Думаете, что вы стали хозяевами в селе. Нет… Я вам сейчас покажу кто здесь хозяин. Твари! Вон отсюда, — и Цанка с яростью плюнул в сторону зверья.
Стая, испугавшись крика, молниеносно исчезла, но через мгновение снова появился темный силуэт хищника, за ним второй, третий.
— Нет, я еще жив и я вам это сейчас докажу… Сволочи! Твари! Вы думаете, что в селе нет людей, нет мужчин, нет хозяина. Вы думаете, что вы твари безмозглые будете здесь хозяйничать. Нет. Неправда. Я еще здесь, я еще жив, — с этими словами Цанка направился к дому, он вспомнил про забытый в доме автомат.
Когда старик вышел из дома с автоматом в руках, шакалы уже открыто гуляли по двору. Деревянные старческие руки никак не могли снять предохранитель, затем еще большие проблемы стали с затвором. Тогда Цанка уперся рукояткой автомата в землю и всем своим весом лег на оружие, он почувствовал кожей тощего живота грубость смертоносного дула. Он надавил еще сильнее. "Сейчас выстрелит" — подумал Цанка. Раздался сухой щелчок, затвор передернулся, но выстрел не последовал. "Если бы так сделал какой-нибудь полезный член общества, чей-либо молодой, нужный сын, то этот автомат давно бы разразился длинной очередью, а мне даже в этом не везет", — усмехнулся горестно старик.
Цанка поднял автомат и не целясь направил его в сторону зверья. Раздался короткий щелчок и тишина, снова нажал, снова тишина. Тогда он снял спешно рожок и ощупью провел по нему грубыми пальцами. Патронов не было. Отчаяние овладело им. Потом ярость и гнев. Он из последних сил, крича, бросил автомат в сторону шакалов. Полет оружия был коротким, бесполезным: автомат беззвучно нырнул в неглубокий, рыхлый снег.
В конец обессиленный старик медленно подошел к внуку, упал на колени, склонив голову. Он хотел читать молитвы, хотел просить Бога и всех своих пророков о помощи, о пощаде, но он ничего не мог, он сидел и молча ждал своей печальной участи. "Видимо я в жизни столько грехов совершил, что судьба в самые последние минуты моей жизни послала мне такие испытания… Послала тогда, когда я потерял все свои силы, всю свою энергию… Видимо это те самые собаки и остальное зверье, что я съел в жизни, на Колыме. Они вернулись, чтобы съесть меня и моего внука… Прав был этот очкарик-физик — не будет у меня и у него могилы, не смогут нас благословить после смерти близкие люди… Видимо не достоин я памяти…"
Ознакомительная версия.