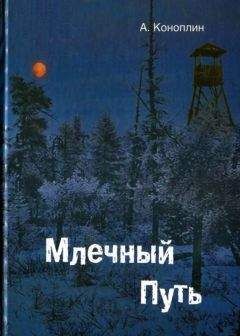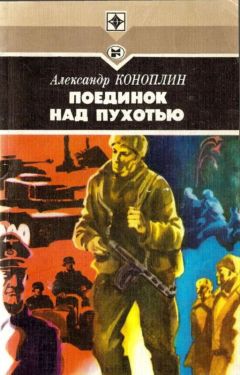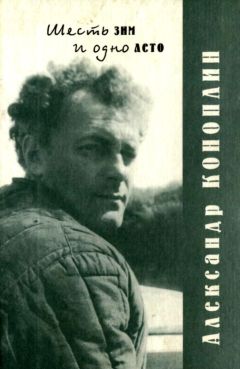Он вытаращил глаза:
— Ты что, очумел? А петиция?
— Какая еще петиция?
— Ну, письмо в прокуратуру республики? Ведь в нем было двести подписей! А письмо начальника колонии? А письма воспитателей?! Свинья ты после этого неблагодарная!
Теперь я таращил глаза и ничего не понимал.
— Какие письма? В какую прокуратуру? Причем тут республика?
Он зло швырнул в меня мокрым полотенцем и стал одеваться:
— Те самые письма, благодаря которым тебя, сукиного сына, оправдали. Люди старались, поверили ему, ручались за него, а он… В общем, прощай, бывший друг! Не ожидал я, что ты нам так нагадишь.
Не сразу, с великим трудом до меня дошел страшный смысл его слов. Правда и справедливость жестоко отплатили мне за то, что я в них разуверился. Жить дальше не имело смысла. Как только за Славкой закрылась дверь, я взял отобранный у Шустрого нож, потому что он лежал рядом, и с силой всадил его себе в левую часть груди. Там, я знал, находится человеческое сердце…
Очнулся я вскоре, но почему-то в комнате Голубки. Голова нестерпимо болела, меня тошнило и все происходящее было залито пеленой тумана. Из этой пелены постепенно начали проявляться то перепуганная физиономия Васи Кривчика, то Славкино напряженное, со сдвинутыми бровями, лицо, то белое, как сметана, ничего не выражающее лицо Мити-Гвоздя, то сердитое и опухшее от пьянства Голубки. Потом появилось еще одно лицо — фельдшера, жившего неподалеку. Его звали Иван Иванович. Он был пьяницей, но хорошим специалистом. Я его видел несколько раз на улице.
Командовал он, и все, кто был в комнате, беспрекословно ему подчинялись. Вымыв руки, он долго ковырялся в моей ране. Голубка держала таз, а Кривчик светил ему переносной лампой. Потом он забинтовал рану, сказал, что она не опасна и стал прощаться.
— Почему же так болит голова, доктор? — спросил я.
— А это оттого, батенька мой, — ответил он улыбаясь, — что ты, падая, ударился обо что-то головой.
— Об плиту, — угрюмо сказал Шустрый. — Она — чугунная.
— Возможно, и об плиту! — радостно подхватил фельдшер. — Ведь это как удариться. Можно вообще жизни лишиться, если, допустим, височной костью. Или вот этой, затылочной. Или вот так, переносицей…
Опасные для удара места он показывал на собственной голове, а все с любопытством смотрели.
Потом он ушел. Около меня остались Вася Кривчик, Голубка и Слава Тарасов. Оказывается, Слава заявил, что не уйдет, пока не убедится, что его друг вне опасности. Шустрый и Гвоздь поворчали, но смирились. Сейчас он сидел на кровати рядом со мной и рассказывал.
Он недавно окончил ремесленное училище и теперь работает в железнодорожных мастерских. Работа тяжелая, но интересная, зарабатывает прилично. Вместе с ним работают трое ребят из нашей Толжской колонии. Еще четверо окончили ремесленное, но работают в Ярославле. С ними Слава переписывается. Пишут ему и воспитатели.
— Да, между прочим, когда я уезжал из колонии, меня вызвал начальник Сергей Васильевич. Меня и еще двоих старших. Уговаривал остаться работать воспитателями. Обещал на курсы послать. А под конец, знаешь, что сказал: «Конечно, вас всех я бы с удовольствием променял на одного Карцева. Вы уж не обижайтесь, но он был прирожденный воспитатель!» Вот, расти, старик! Сам Сергей Васильевич о тебе такого мнения!
— А вы обиделись?
— Нисколько. Тогда… А сейчас, вероятно. Да знаешь, все-таки между нами есть разница…
— Ты не прощаешь даже самоубийце? Жестоко!
— Самоубийство — не искупление. Честный труд — вот искупление. Прости, но я не хочу тебе врать.
— Спасибо. А теперь уходи. Если придет Боксер, я не смогу защитить тебя.
— Твои друзья боятся, что я заложу вашу «малину»?
— Да.
— Ты знаешь, они правы. Такая мысль у меня есть.
— Говори тише. Если это шутка, ты пострадаешь зря. Если правда, ты не успеешь сделать доброе дело.
— Но я этого не сделаю. Нет, Стас! Ради тебя не сделаю. Сделай это сам.
Я попросил Митю-Гвоздя проводить его. При этом я взял с него клятву, что он доведет Славку до вокзала и посадит в электричку. Я единственный знал «ахиллесову пяту» Мити-Гвоздя. Бандит и взломщик был верующим. Если уж он давал клятву, то не мог ее нарушить. Опасения мои оказались не напрасными. Как я потом узнал, Шустрый в самом деле напал, но, получив жестокий удар по голове, ретировался.
Боксер узнал о происшествии, когда я уже поднялся с постели.
— Как жить думаешь? — спросил он. — С Митей-Гвоздем пойдешь или сам по себе?
— Я сам по себе.
— Мы так и думали, — сказал он, и я так и не понял, кого еще он имел в виду. — Смотри, парень, тебе жить.
Вскоре вернулся из «гастролей» Жук. До сих пор не знаю, сам ли он ездил или его кто посылал. Знаю только, что за полмесяца он объездил весь Крым и Кавказ. Судя по всему, Мите-Гвоздю придется искать напарника — Жук вернулся к профессии карманника.
— «Краснота» тоже под «вышкой» ходит, — рассуждал он, валяясь снова на своей кровати, — охра, легавые, хлопотно… А тут наколочку взял, портик вот этими двумя пальчиками ухватил, вывел, потом вот эдак на перелом и — ваших нет. Покупай купейный до Киева.
— А ты знаешь, — сказал я, — тебе привет. От старого приятеля. Между прочим, заходил сюда, да тебя не застал.
— Кто это? — спросил он равнодушно.
— Слава Тарасов. Помнишь такого?
Да, он помнил. Глаза его загорелись нехорошим огнем.
— Жаль, не встретились. Потолковать бы не мешало!
Моя жизнь снова сделала крен. Непонятно было, правда, в какую сторону — в худшую или в лучшую. Если бы я раньше догадался откладывать на «черный день», как это делал Митя-Гвоздь, у меня бы сейчас были деньги и немалые. Но мы с Митей были сделаны из разного теста. Когда у меня появлялись деньги, я раздавал их направо и налево. Заработанные таким путем, они словно жгли мои руки, и я старался от них избавиться как можно скорей. В результате у меня никогда не было гроша в кармане, но зато была репутация рубахи-парня и отличного товарища. Конечно, можно было сразу отказаться от своей доли, но я этого не делал. Деньги давали мне относительную независимость, самостоятельность и свободу, которыми я очень дорожил. В конце концов, имея деньги, я мог сытно есть, уехать, куда мне вздумалось. Наконец, прилично одеться, что само по себе уже делало жизнь намного легче. К прилично одетому юноше у милиции и прохожих претензий меньше.
Решение порвать навсегда с преступным миром еще не вошло в мою жизнь. Я еще не знал, как мне поступить. Воровал, как говорят мои товарищи, «по малой», только, чтобы не умереть с голоду. Встречи со Стецко и Славиком не выходили у меня из головы. Особенно последняя со Славиком. Значит, если бы не Боксер и его шайка, я был бы сейчас полноправным гражданином, а может быть, даже учился?!
Между тем, пока я колебался, преступный мир требовал от меня ответа. Избиения повторялись почти регулярно. Боксер требовал положенного. Его помощники были все те же «добрые молодцы», и иногда — Шустрый. Как все трусы, он был особенно жесток и избирателен.
Помню, после очередной экзекуции, когда Боксер ушел, вся бражка собралась в нашей комнате. По общему настроению я понял, что что-то произошло. Шустрый понял это раньше меня и начал оправдываться:
— Вы ж поймите меня, кореша! Я ж не могу… Он же меня за глотку взял! Я ж у него в долгу. Чуть что — пришьет и делу конец!
Митя-Гвоздь сказал:
— Какие мы тебе кореша? Ты — подлюка! Перед Боксером стелешься, а товарища убить можешь. Иди отсюда!
— Кирюшки, братцы, да неужто вы не понимаете? Я ж его не сильно! Я ж только для виду. Вот пускай он сам скажет. Скажи, Стась!
— Ты поднял руку на товарища, — сказал Гвоздь. — Знаешь, что за это полагается? Если Волчонок скажет, я сам тебя пришью. Хочешь, Карцев? Я сейчас!..
Все вскочили. Шустрый бросился к двери, но там уже стоял Вася Кривчик.
— Оставьте его, — сказал он. — Он тут ни при чем.
— Не я, так другие, — говорит Шустрый дрожащим от страха голосом. — У Боксера вон какие «молотобойцы» есть! Все равно пока Стаська не начнет воровать, он его не оставит.
— Пускай еще раз. попробует сунуться, — сказал Гвоздь. — Я ему потроха выпущу!
Когда за Шустрым закрылась дверь, Кривчик сказал осторожно:
— Зря ты, Митя. При нем-то… Сам ведь знаешь…
— А плевал я на всех! — крикнул Митя. — Вот сделаю завтра последний «скок» на товарную и завяжу насовсем. Ей богу! А чего мне? Гроши есть. Не весь век воровать. Пойдешь со мной, Стась? Нет? А ты, Вася?
Кривчик вздохнул и покачал головой. Жук равнодушно слушал, лениво пожевывая потухшую папиросу. Он редко принимал участие в конфликтах.
Как-то Жук спросил меня:
— А в самом деле, что с тобой?
— Ничего, — сказал я. — А что такое?
— Да не знаю… Какой-то ты не такой. Словно чокнулся. Тебя бьют, а ты хоть бы что.