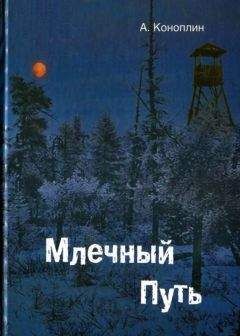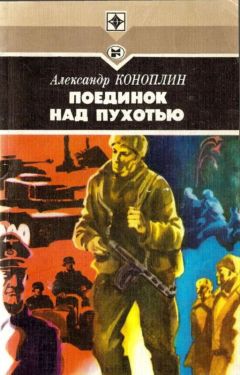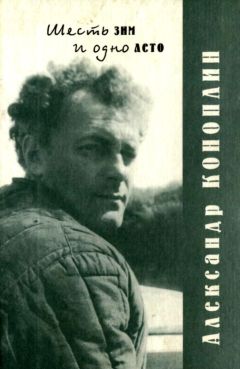Неряшливость не являлась его привычкой. Просто он не мог или не умел делать для себя то, что хотел. Его единственная рубашка давно истлела и превратилась в лохмотья. На пальто вместо пуговиц висели кусочки дерева, кое-как прикрученные медной проволокой. Ботинки развалились, и некоторое время он вовсе не высовывал носа из дома, пока ему не достали какую-то обувь. В то же время нельзя сказать, чтобы такое существование его особенно удручало.
Обитатели дома Голубки относились к нему по-разному. Сама хозяйка, как всегда, жалела и понемногу подкармливала. Жук делал вид, что не замечает профессора. Вася Кривчик и Мора тайно восхищались его образованностью. Тугодум Митя-Гвоздь уважал, инстинктивно чувствуя превосходство этого человека. Шустрый, по той же самой причине, искал и находил массу поводов для издевательства над стариком.
Трусом Илларион Дормидонтович не был, уступать Шустрому, видимо, не собирался. Поэтому не проходило дня, чтобы они не поссорились. Впрочем, помня, что профессора сюда привел сам Боксер, Шустрый дальше словесных перепалок не шел.
У меня старик не вызывал ни жалости, ни симпатии, но зато возбуждал большой интерес. Прежде всего, мне хотелось понять, почему он — человек обеспеченный и в свое время, очевидно, уважаемый, а, главное, никем не преследуемый, оказался вместе со мной на самом дне жизни. Со мной, который ничего не создавал, а наоборот, разрушал ценности, создаваемые другими?
Я слишком долго ломал над этим голову и обогащал жизнь Нестеренко никогда не существовавшими романтическими и трагическими подробностями. В действительности, в его жизни все было значительно проще. Из университета его выгнали исключительно за пьянку. Даже на лекции он являлся пьяным. При этом он говорил всем и каждому, что так, как он, Нестеренко, преподает в пьяном виде, другой и в трезвом не сумеет, ибо только он, Нестеренко, является проповедником настоящей науки. Все остальные — шарлатаны и выскочки. «Проповедника» долго терпели, но в конце концов вынуждены были отказаться от его услуг. На прощание Нестеренко напился до поросячьего визга и устроил дебош в кабинете ректора. На беду там в это время находился председатель народного комиссариата просвещения, и дальнейшая судьба Иллариона Нестеренко была решена. Профессорского звания он был лишен.
Некоторое время Нестеренко давал уроки на дому как рядовой репетитор, но из-за пагубной страсти слишком часто срывал уроки и постепенно потерял всех своих клиентов. Вот тогда-то его и нашел Георгий Анисимович. Несмотря на то, что эксперимент не удался, Боксер хорошо заплатил. Кроме того никогда не отказывал старику в «авансах».
Когда Илларион Дормидонтович, наконец, понял, что попал к «цветным», он сначала испугался, прекратил всякое знакомство с Георгием Анисимовичем и недели две не высовывал носа из своей квартиры. Впрочем, от квартиры к тому времени у Нестеренко осталась одна крошечная комнатушка. Жена Нестеренко умерла задолго до начала войны. Ни родных, ни детей у них не было и Ларочка, как всю жизнь звала его жена, оказался один-одинешенек в целом мире. Тотчас обнаружилось, что и друзей у Нестеренко тоже нет. Предприимчивые соседи, узнав о том, что Нестеренко изгнан из университета, принялись «уплотнять» его.
Нестеренко почти не сопротивлялся. К тому времени он потерял интерес ко всему на свете, кроме вина. В конце концов, он оказался в тесной каморке с одним маленьким окошком и фанерной дверью. Когда-то здесь жила собака Нестеренко по кличке Дэзи. В этой комнате бывший профессор провел едва ли не самые страшные в своей жизни две недели.
Георгий Анисимович не преследовал его и не приходил за долгом. А профессор в это время утрясал последние недоразумения со своей совестью. Как потом оказалось, волнения Иллариона Дормидонтовича оказались ненапрасными. Боксеру он оказался нужен. Правда, его не собирались заставлять лазать по карманам и не совали ему в руку «фомку». Георгий Анисимович соглашался поить и кормить его и даже помочь расплатиться с долгом за одну пустяшную, как показалось профессору вначале, услугу. Нестеренко должен был просто как можно чаще посещать дома своих бывших сослуживцев — профессоров и преподавателей. По мнению Боксера, повод для этого был более чем достаточный, — человек хлопочет о возвращении на работу и восстановлении своего доброго имени.
Сначала профессор не понял своей роли. По простоте душевной он решил, что Боксер верит в то, что Нестеренко будет восстановлен на кафедре, и тогда Георгий Анисимович, наконец, получит свой долг. В конце концов, поразмыслив как следует, он и сам пришел к выводу, что, если приложить максимум старания, использовать прежние знакомства, вести себя скромно и не зазнаваться, то товарищи поверят в его исправление и начнут хлопотать.
И он действительно ходил по квартирам бывших сослуживцев и просил, просил, просил без конца. Одни закрывали перед ним двери, другие, выслушав и насмотревшись на его плачевный вид, жалели и даже обещали поговорить, где нужно. Такие обещания прямо-таки окрыляли старика. Каждый вечер он взахлеб рассказывал все внимательно слушавшему его Георгию Анисимовичу и не замечал, что вопросы, задаваемые Гладковым, к его науке отношения не имеют. Даже то, что после его визитов некоторые квартиры были ограблены, не возбуждало у него подозрений. То, что он живет не дома, а среди воришек, его не смущало. В конце концов, здесь кормят и поят, а после, когда все уладится, этот вертеп можно будет забыть как кошмарный сон.
Но вот кто-то из воров по пьянке случайно или нарочно разом открыл ему глаза на все. И тогда профессор взбунтовался. Прежде всего он поехал в Марьину Рощу и высказал Георгию Анисимовичу все, что он о нем думал, предупредив, что завтра же заявит обо всем в милицию. Затем поехал в Люберцы, но здесь, на его счастье, не было никого, кроме меня и Кривчика. Мы оба с удовольствием выслушали его просвещенное мнение о нас, а также его взгляд на будущее преступного мира. Помнится, мы даже аплодировали ему, когда услышали его мнение о нашем Боксере.
Надо сказать, что к тому времени я уже твердо знал, что быть вором дальше не смогу. Мир, в котором я находился, с каждым днем вызывал во мне все большее отвращение.
Вероятно, немало этому способствовал и год последнего заключения. Если во время войны я видел рядом с собой несчастных, попавших в беду, то теперь меня окружали, в основном, отпетые мерзавцы. Прав профессор, говоря, что преступный мир не нужно пытаться перевоспитывать, его надо просто физически уничтожать, чтобы уберечь от порчи все общество.
Утомленный его длинными и иногда малоприятными речами, я уснул и проснулся среди ночи от крика. Мои товарищи не спали. В комнате было много воров, и в том числе те самые «добрые молодцы», которые разгоняли в свое время воровскую компанию. Посреди комнаты, разутый и полураздетый, сверкая глазами и стеклами пенсне, стоял профессор Нестеренко. Всклокоченная борода его воинственно топорщилась, редкие волосы на затылке стояли дыбом.
— Я — червь! Я — пресмыкающееся! — кричал он. — Но лишь потому, что я — пьяница. Я действительно могу за рюмку водки унижаться, просить и даже паясничать, но я не могу украсть, поймите это!
— Никто вас не заставлял воровать. Речь шла о небольшой услуге для меня лично. Вы не просто не выполнили моего поручения, вы провалили серьезное дело!
Это сказал Боксер. Я не сразу заметил его. Он сидел в слабо освещенном углу комнаты, скрестив тяжелые руки на ручке хорошо знакомой нам трости. Так значит, это суд над профессором! Интересно, чем он закончится? Обычным избиением или… Я живо поднялся и отошел в сторонку. Судьба Нестеренко пока что меня не волновала. Но вот он заговорил снова:
— Вы хотели сделать из меня наводчика, но вам это не удалось. Да, я провалил ваше э-э-э… прошу прощения, никак не могу освоить ваш собачий язык… Назовем его просто «очередное мероприятие». Да, я его провалил. Сознательно. Я предупредил профессора Беспалова, чтобы он был осторожен. Потому что профессор Беспалов — это профессор Беспалов! Я преклоняю перед ним свою седую голову. Хотя он был одним из тех, кто требовал моего исключения из университета. Он всегда прав. Потому что всегда честен и принципиален. Люди, подобные мне, его, естественно, не любят. Я тоже не любил.
Но вчера, когда я увидел его снова… И когда он сам предложил мне помочь найти работу… Я не мог. Я понял, кажется, впервые по-настоящему, кто я такой! И мне стало страшно! Я впервые увидел у себя под ногами бездну. Смрадную, вонючую выгребную яму, в которой копошатся, поедая друг друга, мерзкие отребья вроде вас, — его палец, прямой, тонкий, дрожащий от напряжения, указывал на застывшую в неподвижности фигуру Боксера. — Вы и подобные вам уходите из жизни. И это так же правильно, как то, что меня выгнали из университета. Но вы оставляете после себя вонючий шлейф совращенных вами дегенератов и маменькиных сынков, не желающих работать болванов, и тех, кто по несчастью попал в ваши сети. Поэтому вам нельзя дать умереть своей смертью. Вас надо уничтожать, как крыс, как бешеных собак, как фашистов! Да-да, фашистов! В то время, как честные люди проливали кровь на фронте, вы грабили их детей, убивали их жен, отнимали у стариков последние тряпки, чтобы пропить их в ту же ночь.