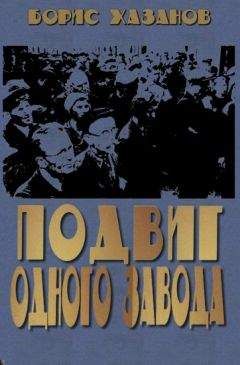— Он побежал исправлять порыв провода… Я было кинулся, да он опередил…
Конечно, Вяткин сделал хорошее дело: восстановил связь. Но он же не связист, а разведчик и на линию должен был идти Седых.
Хитрый Вяткин: нашел удобный предлог, чтобы уйти с кургана. Мне вспоминается: «Орден получу, в партию вступлю, в колхоз вернусь — председателем буду…»
На курган Вяткин решил, видимо, пока не возвращаться. Время, чтобы вернуться, прошло.
Ковалев прощается с нами, еще раз говорит «поздравляю» и вдруг замечает Козодоева и Таманского, которые не спеша бредут к высоте, нагруженные трофеями — флягами, автоматами, пистолетами. У Козодоева, кажется, еще и сапоги.
— Это что, мародерство? — вскипает полковник. — Как у вас, старший лейтенант, поставлено воспитание?!
Что я могу ответить? Козодоев и Таманский вели себя в бою отважно. Я в них был уверен: не подведут. А что касается воспитания — у меня еще не было времени их воспитывать. Я сам узнал их совсем недавно.
Напряженную обстановку рассеивает появление Любки.
Не обращая внимания на полковника — женщине в армии кое-какие дисциплинарные нарушения прощаются, — она кричит:
— Раненые есть?
Раненых нет. Мы выиграли тяжелый, рискованный бой, не потеряв ни одного человека.
— Похоронная команда пришла! — шумит Валиков, кивая в сторону Любки.
Любка сбрасывает с плеча санитарную сумку.
— Черти, дайте воды. У кого есть во фляге? Я к вам так бежала…
Козодоев услужливо протягивает ей флягу. Любка нюхает, брезгливо морщит нос.
— Это коньяк или ром… Не пью.
Несколько минут она молчит, приходит в себя, а потом весело спрашивает:
— Ну как, мужики? Трудно воевать?
Мужикам трудно, а Любке не легче. В тяжелое положение мы попали. Сразу и не опомнишься. Но угроза миновала.
Вызываю через дивизионный коммутатор Тучкова:
— Спасибо, мушкетер! Наша всегда берет!
В трубке обрадованно гудит тучковский голос:
— Сашка! Живой! Как мы тебя не угробили! Ну, значит, жить тебе сто лет.
Несколько дней наш наблюдательный пункт находится на высоте 95,4. Потом нас «выселяют». Здесь обоснуются командующий артиллерией и наш командир полка — подполковник Истомин.
А «девятке» отведут место поскромнее, в кукурузном поле.
Наступает глухая оборона. Немцы во что бы то ни стало хотят удержать Никопольский плацдарм — последний кусок земли на левом берегу Днепра. Время от времени идут слухи, что они даже готовят наступление, думают прорваться на Крым.
Попытки выбить их с плацдарма успеха не приносят.
С утра гремит артиллерия, посылают свои залпы «катюши», к середине дня все становится ясным: позиции прежние.
И опять — мелкая перестрелка. Опять дрожащие огни ракет.
Мы сидим в блиндаже.
— Кого послать за супом? — спрашивает меня Богомазов. Он сейчас старший во взводе управления, остался за Бородинского. Бородинского положили в госпиталь: малярия, «тропичка». Как ни крепился Бородинский, как ни терпел он, как ни пересиливал себя — пришлось сдаться. Температура — сорок два, бред, беспамятство.
Кого же послать за супом? Кто должен взять на спину термос, пройти или проползти поле под пулеметным огнем, под разрывами мин, добраться до батарейной кухни и потом снова вернуться на наблюдательный пункт?
Богомазов? Нет. Он весь день не отходил от стереотрубы. Валиков? Он только что вернулся из пехотного батальона. Козодоев? Он перетаскал, размотал и смотал за день добрую дюжину катушек.
И все они голодные — не ели ничего с утра.
Пойдет связист Порейко: у него работы не было.
— Я идти отказываюсь… — говорит Порейко.
— Как отказываетесь? — спрашиваю я. — Это приказ.
— Понимаю, что приказ, но не пойду.
— Вы больны?
— Нет.
Двадцатилетний парень, заросший рыжей щетиной, нахохлившись, тупо смотрит вниз.
— Боится он, перетрухал малость, — замечает Козодоев. — Тут стреляют близко. А мама далеко.
— Эх ты, Мечик, голова твоя — два уха! — укоризненно говорит Валиков.
Валиков дал Порейке кличку «Мечик» — по имени труса-белоручки из фадеевского «Разгрома». Повторяю:
— Берите термос и идите!
Порейко топчется на месте.
— Пойдете?
— Не-ет.
— Вы целый день отдыхали, были на батарее, товарищи ваши работали. Вы хотите, чтобы пошел кто-то из них? Вам не стыдно?
Порейко молчит.
— Будете выполнять приказ?
— Нет! — резко, со злостью отвечает Порейко.
Он весь тут — трус, эгоист, студент, отчисленный за неуспеваемость и потому лишившийся спасительной брони!
О своей неуспеваемости Порейко создал легенду. Он объяснял товарищам — впрочем, товарищей у него нет: кто согласится с ним на дружбу, если он смотрит на всех пренебрежительно, разговаривая, цедит слова через зубы? — он объяснял, что в институте к нему просто придрались, отомстили за смелую критику. Каких от него смелых поступков можно ожидать вообще? Просто плохо учился.
Теперь попал на фронт. Оказался в чужой среде, где много простых, порою полуграмотных, малокультурных людей. Но простые, малокультурные умываются, а он — нет.
— Хоть стреляйте — не пойду!
— За отказ выполнить команду на поле боя стреляют, — поясняю я и вынимаю из кобуры пистолет. Оттягиваю затвор. Навожу пистолет на Порейко. Вижу, как начинает дергаться его голова, как безумно расширяются зрачки. Порейко шарахается в сторону и с криком «а-а-а!» бежит по траншее прочь. Стреляю ему вслед, но выше головы, в воздух…
— Разрешите я сбегаю, — вызывается Валиков. — Мечик потопал умирать.
Валиков возвращается часа через полтора — без фуражки, промокший: идет дождь со снегом.
— Валиков, где твоя фуражка?
— Ах, черт, посеял в кукурузе. Не мог найти. Темно уже. Ну, ничего, перейду на зимнюю форму одежды: есть шапка установленного образца. (Валиков любит иронически цитировать слова из приказов и уставов.)
Валиков улыбается, и все улыбаются. Этот шумный, черноглазый парень очень быстро передает окружающим свое хорошее настроение. Иногда и скажет совсем не смешное, а вокруг смеются: такая у него интонация. В ней, наверно, весь секрет.
Валиков снимает со спины термос, говорит мне:
— Ваше задание выполнено. Только термос не полный. Случилась авария. Ползу через бугор и вдруг чувствую, что мне горячо. А это суп гороховый вытекает. Скидываю термос, смотрю — в нем дырка. Шальной пулей пробило. Пришлось затыкать подручными средствами.
Богомазов стаскивает с Валикова мокрую шинель и вдруг говорит:
— Постой, тут не только термос задело, но и тебя, кажется…
На гимнастерке у плеча расплылось темное красное пятно.
— Раздевайся. Ребята, у кого есть индивидуальный пакет?
Рана, к счастью, небольшая — царапина.
— Тебе больно, Валиков? Ты чувствовал, когда чиркнуло?
— Нет. Вот как суп горячий тек — чувствовал.
— Ну, ничего страшного. Это заживет.
— На мне как на собаке.
По котелкам разливают суп. Звякают о котелки ложки.
— Добавки сегодня не будет, — горестно вздыхая, замечает Таманский. — Придется ждать до утра.
— Насчет добавок, славяне, бросьте, — советует Валиков. — Знаете, какая на это точка зрения у повара? Подхожу я к кухне — стоят наши братцы батарейцы за добавкой. А повар Потапыч говорит: «Удивляюсь я на солдата: съест котелок, просит второй, а то еще и третий. А я лично скушал утром стакан сметаны, и мне до сих пор ничего есть не хочется». Ему отвечают: «Эх ты, Потапыч! Ты своего супа никогда не пробовал. Через него все дно насквозь видно… Как дистиллированная вода».
Слушая Валикова, мы не замечаем, как в землянку тихо возвращается Порейко.
— Ребята, а мне малость не дадите? — спрашивает он осторожно, вкрадчиво.
Все молчат, переглядываются.
— Ты — живой? — удивляется Валиков. — Ну, живому-человеку отказать нельзя. В термосе вроде немного осталось… Но могу дать только с разрешения старшего лейтенанта.
Я молча киваю, смотрю на Порейко. Дрожащими руками — обеими — он берет котелок с остатками горохового супа и уползает в темный угол землянки.
— Закурим, — предлагает Богомазов. — У кого табачок позлее? И балалаечку мне дайте. Какие будете слушать частушки?
Никому я не скажу,
Зачем на линию хожу.
Примечаю паровоз,
Который милого увез.
— Подожди, Богомазов, совсем забыл: старшему лейтенанту письмо есть, — говорит Валиков. — Не сразу вспомнил. Мне на батарее хлопцы передали. Только, конечно, поплясать надо…
Фронтовой традиции нарушать нельзя: пришло письмо — пляши.
Богомазов играет «Русского», я топаю сапогами, как могу, и получаю от Валикова конверт.
Почерк Инги. Она давно не писала. Последний раз письмо было какое-то странное. Короткое и холодное, просто деловое: очень занята, много домашних дел в связи с болезнью матери…