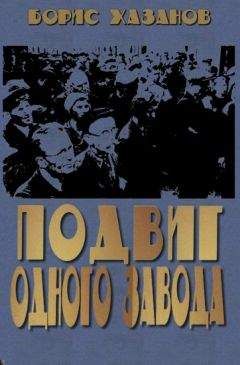В конверт вложен необычно маленький листок бумаги. И на нем всего несколько слов. Я читаю их и ничего не могу понять, не могу поверить в то, что написано. Буквы прыгают. «Больше мне не пиши. Я вышла замуж. Не поминай лихом. Инга…»
Значит, Инги больше нет? Инги Хрусталевой для меня не существует? Есть другая Инга — чужая, с чужой фамилией? Постой, постой, подумай еще, Сашка, нельзя же так быстро!.. А что думать? «Я вышла замуж…»
В ушах у меня шумит, голову сжало. Передо мной то возникает, то пропадает Инга. И вдруг я слышу ее голос — настоящий, ни на чей не похожий:
«Сашка, смотри, как красиво! Цветы и снег!»
«Ты пиши мне, пиши, не забывай!»
«Садишься в самолет и летишь в какой-то далекий городок или поселок. Романтика!»
«Сашка, я не увижу тебя целых сорок пять дней…»
«Цветы и снег!..»
Цветов нет. Остался только снег. Мокрый, противный, он падает на раскисшие приднепровские поля. На те места, которые в сводках именуют: «район юго-восточнее города Никополя».
Я смотрю, как бьется огонь в железной печке. Старший сержант Богомазов, встревожившись, спрашивает:
— Убили кого-то?
— Убили.
— Ребята, спать! — командует он. — Концерт отставить!
Мы сидим с ним около печки вдвоем. Достаю из планшетки фотокарточку Инги, платочек, который она подарила. Он до сих пор еще пахнет духами.
— На каком фронте убили? — спрашивает Богомазов и протягивает руку за фотографией.
— В Казани…
Я бросаю фотографию в печку. Она свертывается трубкой; дымит, потом вспыхивает.
— А-а-а! Вот что? — догадывается Богомазов. — Так вы не печальтесь. Не переживайте. Знаете, сколько таких карточек сгорело в железных печках с сорок первого года? Бабам верить нельзя. И потом — война.
Дежурный телефонист Козодоев зовет меня к аппарату.
— Сашка, слыхал, что случилось? — доносится из трубки.
— Кто это говорит?
— Тучков. Не узнаешь, что ли?
Я действительно не узнаю: он говорит не своим голосом.
— Что случилось, Василий?
— Звонил Исаев. Владика царапнуло… В госпиталь отправили.
— Как царапнуло?
— Крепко. Наверно, без руки останется… Во время артналета под Белозеркой. Снаряд разорвался у входа в блиндаж.
Владлен Доронин… Еще один «мушкетер». Только что был его портрет во фронтовой газете. Под портретом писали, что Доронин отличный артиллерист, прекрасно справляется с должностью старшего на батарее, пример для комсомольцев дивизиона.
Голос Тучкова куда-то пропадает. Я кричу в трубку:
— Вася! Василий! Коммутатор!
Молчание. Порыв на линии.
Близко рвется снаряд. Потом другой. Начинается ночной артналет на нашем участке.
Другие армии идут вперед, мы пока на месте. Те же землянки и окопы, те же деревни впереди. И та же мерзкая погода: мокрый снег, дождь.
Уже середина января, а зимы все нет. Днем на солнце даже пригревает.
Вместе с Валиковым мы шлепаем по раскисшей дороге к высоте 95,4, на наблюдательный пункт подполковника Истомина.
Курган теперь не похож на тот, каким был в день первого боя. У него обжитой вид: добротные блиндажи в несколько слоев наката, укрепленные досками траншеи, маскировочные сети.
Смотрю на часы: не опаздываем. Подполковник Истомин любит точность, аккуратность и к тем, кто эти правила нарушает, очень строг.
Однажды он заехал на «восьмерку», Лесовик стал показывать ему, как расположилась батарея.
Объясняя, Лесовик прошел вперед, и Истомин увидел, что у командира батареи оторвана пуговица на хлястике шинели.
Подполковник остановился и раздраженно сказал:
— Дальше я не пойду. Нет у вас порядка на батарее. Какой же может быть порядок, если сам командир ходит с оторванным хлястиком?
Когда командир дивизиона докладывал Истомину, что боевой приказ выполнен, цель подавлена или уничтожена, это не значило, что от Истомина немедленно последует благодарность.
Иногда подполковник говорил:
— Что уничтожена — вижу. Но стреляли вы малокультурно. Понимаете? Воевать надо красиво. Это же искусство!
Как воевать красиво — Истомин показывал сам. Приходил на наблюдательный пункт батареи. Садился за планшет, запрашивал шифрограмму метеосводки, делал расчеты, подавал команду на батарею.
При этом шутя говорил командиру:
— На полчаса я вас освобождаю от ваших обязанностей. Командовать батареей буду я.
Никто не мог так точно взять цель в вилку, так безупречно удержать пристрелочные снаряды на одной линии, так быстро поразить цель, как Истомин. Когда он вел огонь, лицо его всегда было спокойно, а глаза светились увлеченностью, азартом.
Окончив стрельбу, он надевал шинель, брал в руки стек, с которым никогда не расставался, и на «виллисе» или верхом на лошади уезжал в штаб.
…Я вхожу в блиндаж. Истомин читает газету — «Звездочку». Увидев меня, поднимается, делает несколько шагов навстречу.
— По вашему приказанию старший лейтенант Крылов явился.
— Вольно, Крылов, — говорит подполковник. — Я вызывал вас для того, чтобы по поручению командующего и от имени Президиума Верховного Совета вручить вам орден Красного Знамени. За бой на этой высоте.
Подполковник поздравляет меня и прикрепляет к моей гимнастерке орден.
Я отвечаю:
— Служу Советскому Союзу!
— Очень рад, Крылов, что ваш подвиг высоко отмечен. Отмечен старейшим и самым высоким боевым орденом. Его носили Фрунзе, Котовский…
Потом подполковник приглашает меня сесть за стол, спрашивает:
— Сколько вам лет?
— Девятнадцать.
— Член партии?
— Комсомолец.
— Где учились?
— Сначала в Москве, в артиллерийской спецшколе.
— В спецшколе? Кто командовал ею?
— Майор Кременецкий, старший политрук Тепляков.
— Подождите, подождите… — задумывается подполковник, — я их обоих, кажется, знаю. Кременецкого по Испании. А Тепляков был у Хасана… За высоту Заозерную у него тоже Красное Знамя. Вместе в Кремле получали. Ну что ж, хорошие у вас были наставники.
Прощаясь, подполковник Истомин говорит:
— Верю в вас, надеюсь. Готовьтесь к новым боям.
Новые бои наступают скоро.
В начале февраля мы начинаем наступление.
Оно проходит стремительно: нашему фронту помог сосед — Третий Украинский. Его войска вышли к Днепру недалеко от Никополя и отрезали пути отхода на Запад семи немецким дивизиям.
Гитлер издал приказ: любой ценой удержать плацдарм.
Но приказ остался невыполненным.
Семь немецких дивизий отступают. Через несколько дней тысячи немцев мы загоним в Днепровские плавни. Они погибнут там под нашим орудийным огнем или утонут… Они будут тонуть в камышах целыми батальонами. Батальоны и полки утопленников — вот чем закончится для гитлеровцев «Никопольская операция».
Семь немецких дивизий бросают технику и вооружение.
На дорогах — завязшие в грязи автомашины, транспортеры, пушки.
На нашем фронте — теперь он называется Четвертым Украинским — опять оттепель, опять веет теплый ветер.
Мы неотвязно преследуем отступающего противника, «сидим у него на плечах». Но двигаться трудно. Один трактор пушку не тянет. Не тянут и два. Цепляем по три. Тащим пушки по грязи волоком. Черная, маслянистая грязь выше осей.
Дивизион вступает в деревню Днепровку.
Здесь назначен короткий привал, он вызван необходимостью: надо подтащить отставшие орудия.
После нескольких месяцев сидения в землянках бойцы первый раз видят деревню, настоящие дома.
— Поспим часок в хате! — радуется, потирая руки, Козодоев.
И вдруг — строгий, повелительный голос Любки:
— Отставить! В дома никому заходить нельзя!
Любка — представитель медицинской службы, пусть не очень большой, но ее надо слушаться. Спрашиваю:
— Что такое?
— Вши и блохи. Я уже успела обследовать много домов. Пойдемте, товарищ старший лейтенант!
Мы заглядываем в самый ближний дом. Внутри его, в комнатах сооружены деревянные двухъярусные солдатские нары, на нарах — солома.
— Как они тут только спали? — разводит руками Любка. — Посмотрите: аж солома шевелится. Если вы позволите хоть одному бойцу зайти в дом, я доложу в медсанчасть.
Нет, я, конечно, не позволю: научен.
Месяца два назад санитарная комиссия нашла у одного из бойцов батареи в нижнем белье вошь.
Откуда эта гадость взялась? Только накануне все бойцы прошли полевую баню, жарили гимнастерки и брюки на костре — в железных бочках из-под горючего, каждый получил новое белье. И вдруг такая «находка». Врачи пишут рапорт, и я, как командир батареи, получаю выговор за «нарушение формы № 20». «Форма № 20» — борьба с насекомыми.
Короткая стоянка в Днепровке — и мы буксируем пушки дальше.