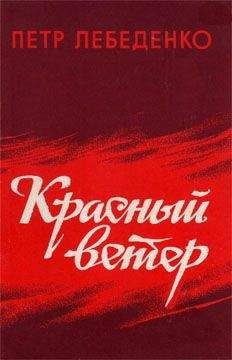Откуда пришло это ощущение, чем оно вызвано — ему не понять. Ведь все сейчас, кажется, как нельзя лучше: спокойная, неширокая речушка умывает некрутые берега, едва заметно, точно от легкого ветра, качаются в ней невысокие вербы, будто пришедшие сюда поплескаться в воде своими ветвями, зеленая поляна горит хрусталем невысохшей росы на каждой травинке, и под каждым кустиком, под каждой кочкой, в каждой ложбинке просыпается жизнь — вечная суета крохотных, живых существ, с великой трепетной радостью встречающих рождение нового дин.
Да и сам Андрей всего лишь минуту-другую назад ощущал такую же трепетную радость…
А потом — внезапный толчок и вот это щемящее чувство тревоги.
Он рассеянно огляделся вокруг — ничего, оказывается, не изменилось! Поляна по-прежнему горела хрусталиками росы, все так ко покачивались в реке отражения верб, и сквозь листву было видно, как поднимается над землей еще не яркое солнце.
Андрей прислушался. Прислушался к самому себе, к своим ощущениям, но вдруг услышал посторонний звук — неясный, далекий, чуждый всему, что Андрея сейчас окружало, и в тоже время он подумал, будто этот вторгшийся в лесную жизнь звук тесным образом связан с его тревогой, с тем, что происходило внутри него…
На поляну, приминая траву, вырвался мотоцикл. За рулем, сдвинув на лоб защитные очки, сидел давний друг отца — летчик-испытатель Петр Игнатьевич Баринов. В спутанных его волосах шевелились, словно живые, желтоватые листья.
Выключив мотор, Баринов слез с мотоцикла и стал искать по карманам комбинезона папиросы. А Андрей, чувствуя, как что-то в нем будто оборвалось, продолжал сидеть у костра, не в силах подняться с места, не в силах произнести хотя бы одно слово. Он точно окаменел, испуганно и обреченно глядел в глаза Петра Игнатьевича, пока тот подходил к костру и садился рядом. Сел, взял обугленный прутик и стал прикуривать папиросу.
Не глядя на Андрея, проговорил:
— Ну, здравствуй, лесовик. Чего так плохо встречаешь друзей?
— Вы зачем сюда, дядя Петя? — настороженно спросил Андрей. — Вы ко мне приехали?
— К тебе. Возвращаться домой надо, Андрюша. Понимаешь? Сейчас возвращаться. Ну-ну, чего это ты? Я ведь ничего такого не сказал… Всякое, знаешь, в жизни бывает… Ты давай собирайся, а я пока посижу, покурю. Договорились?
Он глубоко затянулся папиросным дымом, закашлялся и отвернулся. Отвернулся, чтобы не видеть мученических глаз Андрея. И подумал: «Ну как ему сразу обо всем сказать? Или не надо сразу?..»
Стараясь не закричать, подавляя в себе теперь уже не тревогу, а схвативший его за горло страх, Андрей еле слышно спросил:
— С папой беда?
Баринов покачал головой:
— Нет. — И заговорил быстро, сбивчиво, точно боясь, что у него может не хватить мужества сказать все сразу: — С мамой беда, Андрюша. Ты мужайся, слышишь? Что ж теперь сделаешь? Нет больше у тебя мамы, сынок. Умерла она. Внезапно. Легкая смерть… Отцу дали телеграмму. К вечеру, наверное, прилетит… Говорят, вышла вечером из дому, пошла посидеть в скверик. Тот, что напротив вас… Ну, видели, как она села на скамейку, развернула пакетик и начала кормить голубей. А потом легонько вскрикнула, подняла руки и обхватила ими голову. Кто-то услыхал, как она вскрикнула, подбежал к ней, а она уже никого не видит и ничего не слышит… Тут же перехватили машину, отвезли в больницу…
Петр Игнатьевич бросил в костер докуренную до самого картона папиросу, сразу же закурил вторую и сокрушенно покачал головой:
— Эх, жи-изнь! Будто кому-то надо, чтобы такие люди уходили из жизни… Так она и не пришла в сознание… Кровоизлияние в мозг. Врачи ничего не смогли сделать… И не мучилась она — все кончилось за считанные минуты… Андрюша! Слышишь, Андрюша!
2
Он оцепенело стоял у изголовья гроба, растерянно хватался рукой за край стола, чтобы не упасть, и озирался по сторонам, боясь как бы кто не увидел, в каком он находится состоянии.
В комнате сейчас было много знакомых лиц, но, как ни странно, все они казались ему чужими. Вон кто-то плачет, другой угрюмо смотрит на покойницу пустыми глазами… Да разве они испытывают хотя бы миллионную долю тех страданий, какие испытывает он, Андрей? И понимают ли они, кем была для него его мать?
Он истошно закричал:
— Нет! Не хочу! Не могу! Мама, мама, родная моя!..
И обхватил ее голову руками, ощутил запах волос — не тленный, а совсем живой, — запах, знакомый с первых лет, с первых неумелых шагов, с того самого времени, когда она носила его на руках… Какой же он был дурачок, когда лет пяти-семи отбивался от ее ласк, отмахивался от нее, отбрыкивался. Ему казалось, что своей нежностью к нему она унижает его мальчишеское достоинство. Не девчонка же он, в конце концов, а мужчина. И извольте обращаться с ним без всяких сюсюканий и нежностей. В душе-то он был счастлив, что мать его так сильно любит, но это совсем другое дело…
Чего бы он сейчас ни отдал, чтобы она прикоснулась своей рукой к его руке, чтобы просто взглянула на него и улыбнулась…
Вдруг он почувствовал, как перед глазами начало темнеть, словно в комнату вползали густые сумерки. Это было странно и непонятно: за окном горело солнце, Андрей его ясно видел, а вокруг гроба, окутывая лицо матери, сложенные на груди руки и белые цветы, к которым прикасались его пальцы, все погружалось во мрак, и он опять закричал, теперь уже от страха, что образ матери исчезает, размываясь в этой черноте.
Кто-то обнял его за плечи и осторожно увел от гроба — он даже не пытался сопротивляться, ощутив вдруг страшную пустоту вокруг…
* * *
Две или три недели после похорон отец оставался дома.
Они вместе готовили себе еду, вместе убирали со стола, мыли посуду, ходили в магазины за продуктами — всегда вдвоем, будто боясь потерять друг друга из виду.
Казалось, они присматриваются один к другому, словно злой рок, отнявший у них самого близкого человека, лишь сейчас свел их вместе, и они теперь должны не только изучить привычки, склонности, характеры друг друга, но и по-настоящему понять, что же за человек живет рядом, под одной крышей.
Разве они не знали друг друга раньше? Или знали плохо? Нити, связывающие их, всегда были прочными: одна и та же кровь, одни и те же корни денисовского древа, глубоко вросшие в землю, по которой они ходили, унаследованные от дедов и прадедов цепкость к жизни, упрямство, любовь к труду.
И они чувствовали это, втайне гордясь такой схожестью и, наверное, думая: «Все, что есть в тебе, есть и во мне. Так смотри же, ничего не утрать, ничего не растеряй, иначе мы не останемся теми, кем были и есть. Все ведь это общее — твое и мое…»
Но оба они понимали: как бы ни прочны были связывающие их нити, есть ветер, который может эти нити спутать, а то и вовсе разорвать. Такие ветры уже проносились над ними не раз.
Однако тогда был человек, который умел в любой ситуации отыскать нужную тропу. «А ну-ка, мужички Денисовы, поглядите мне прямо в глаза… Та-ак! Теперь выкладывайте, из-за чего сыр-бор. Начнем со старшего…»
Они не могли ничего от нее утаить — не могли не только потому, что всегда видели в ней беспристрастного и честного судью, но и главным образом потому, что беспредельно ее любили. Честно рассказывая ей о пронесшейся над ними туче, они как бы исповедовались. И после такой исповеди обоим становилось легче: мир входил в их души, и оба они понимали, что-этот мир принесла она…
Теперь ее не было. Сильные духом, сейчас они чувствовали себя совсем беспомощными: кто же в случае новой размолвки выведет их на тропу мира? Не разбросает ли их теперь злой ветер в разные стороны?
Да, им приходилось заново познавать друг друга. Вначале обоим мешала настороженность, в своих чувствах они испытывали скованность, но мало-помалу все это прошло, и, по мере того как чувства их раскрепощались, отношение друг к другу становилось проще и сердечнее.
Часто они подолгу не виделись, и тогда Андрей ощущал гнетущую пустоту, которую ничем нельзя было заполнить, — это была тоска по другу, очень близкому и нужному и совершенно незаменимому. А когда наконец отец появлялся, Андрей коротко говорил:
— Знаешь, без тебя мне всегда скучно. И многого не хватает.
— Мне тоже, — признавался отец.
А однажды (это было уже года через два после смерти матери) Денисов-старший сказал:
— Все чаще и чаще мне приходит в голову назойливая мысль… Я достаточно в своей жизни полетал. Раньше, бывало, в каждом полете я как будто испытывал новизну ощущений, каждый полет приносил частичку счастья. Ты меня понимаешь?
— По-моему, да.
— И я никогда не думал, что ко всему этому можно привыкнуть. Мне всегда казалось: поднимайся в небо хоть миллион раз — и миллион раз тебя будет охватывать ни с чем не сравнимое чувство радости…
— Теперь что-то изменилось?