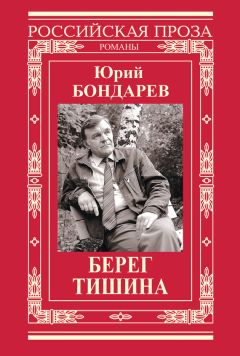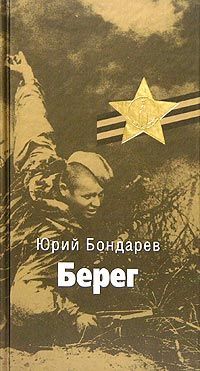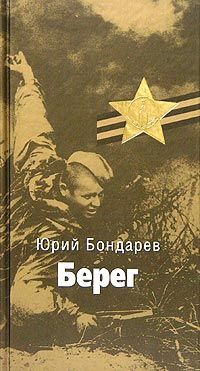Хлестко ударив ладонями по подлокотникам, он чересчур быстро, с рыву поднялся, застегивая пиджак, смеясь и сгоняя смех с землистого, худого лица, освещенного блестящими главами, проговорил с ожесточенной веселостью:
– Да, несомненно, вы умница. Благодарю. Я бы не хотел, чтобы у меня повторился сердечный приступ. Эта штука нужна. – И постучал пальцем в левую часть груди. – До свидания, господа. Мы еще не раз увидимся! Я действительно слаб после болезни. Еду спать!
Он сделал общий поклон и, высокий, прямой, слегка качаясь на долгих ногах, пошел по толстому ковру к двери.
– Фридрих! – вставая, проговорила госпожа Герберт. – В таком состоянии вам будет трудно вести машину! Извините, господа, один момент…
Она догнала его, и перед дверью Дицман, по-прежнему чересчур решительный, обернулся, вздернул плечо, сделал звонкий щелчок пальцами, словно поворотом включал зажигание, ответил ей смехом:
– Когда я выпью, я вожу машину, как гонщик, уверяю! Лучше, чем обычно.
Они вышли, дверь плотно замкнула безмолвие в гостиной, стало слышно похрустыванье, пощелкиванье поленьев в недрах камина, гости преувеличенно вежливо переглянулись, как бы чуть-чуть разочарованные неожиданным уходом хозяйки, прерванным разговором, – господин Вебер, весь утонув в кресле, дыша кругленьким, обтянутым жилетом брюшком, глубокомысленно почистил о жилет ноготь, своими полускрытыми в одутловатых веках глазками рассмотрел под светом торшера его полировку, затем со свистом, с бульканьем потянул через соломинку остаток коктейля из бокала, добродушно заговорил:
– Господин Дицман – великолепный главный редактор, талантливый эссеист, интеллектуальный человек…
– …которого ты держишь в своем издательстве, как безотказного негра. У него месяц назад был сердечный приступ! – добавила Лота Титтель, наступательно вскинув подбородок. – Не так ли?
– Лота, Лота, Лота… – ласково и миролюбиво возразил господин Вебер. – Ты опять делаешь заявление как социал-демократ, а не как актриса. Нет, нет? Сердечный приступ господин Дицман получил не из-за больших денег, которые я ему плачу, а от невоздержанности, свойственной сейчас интеллектуалам, нет, нет?
– Вы не соскучились без меня, господа?
Вошла госпожа Герберт, приятной улыбкой гостеприимной хозяйки, даже спешащей походкой как бы извиняясь за свое отсутствие, но господин Вебер довольно проворно для своего грузного сложения встал, все так же по-домашнему благодушно сияя хорошими зубами, лысой головой, и за ним гибкой веточкой разогнулась и легко вскочила Лота Титтель, подхватывая сумочку с пола, зашуршав серебристой чешуей платья, и оба вперемежку с благодарностями за прекрасный вечер начали прощаться с госпожой Герберт.
А она кивала, улыбаясь, однако не задерживала их, что часто бывает в русских домах, и они, отпустив ее руку, стали прощаться с Никитиным и Самсоновым, которые тоже встали следом за Лотой Титтель.
– И нам пора, госпожа Герберт, – сказал Никитин. – Спасибо вам…
– О нет, нет, нет! Одну минутку, господин Никитин! – вдруг перебила его она, смущенно глядя ему в глаза. – Я хотела бы вас задержать на несколько минут. Господина Самсонова, если он не возражает, подвезет до отеля господин Вебер, а я отвезу вас через полчаса. Я хотела бы поговорить с вами о предстоящей дискуссии. Это совсем немного отнимет у вас времени.
«Зачем она при всех отделяет меня от Самсонова? Что за этим стоит?» – подумал Никитин, чувствуя мерзкое неудобство колющего подозрения, какой-то внутренней тесноты, намеренный отказаться и вполусерьез, деликатно, настойчиво сказать об усталости, о головной боли, о предельной перенасыщенности впечатлениями, но проговорил тоном отвратительного самому себе согласия:
– Что ж. – И добавил излишне спокойно, обращаясь к Самсонову: – Я приеду и зайду к тебе. Не ложись спать. Подожди.
– Черт знает… Не приглашают ли тебя ночевать здесь? – вкось кинув сердитый взгляд на госпожу Герберт, ответил по-русски Самсонов, будто говорил о надоевшей погоде, и, багровея, заложил руки за спину, покачался взад и вперед на каблуках перед господином Вебером. – Значит, я могу надеяться на вашу любезность? Вы меня подвезете?
– Конечно, конечно! – тряхнула струями рыжих волос Лота Титтель, распространяя запах лавандовой свежести, и вторично по-мужски стиснула руку Никитина, сказала шепотом: – Нас, немцев, все же есть за что не любить, господин Никитин, стоит только вспомнить войну. О, это особая нация!
Они сидели на кожаном диване в библиотеке.
– Я прошу вас говорить медленнее. Иначе не все пойму.
– Господин Никитин, это было так давно, что мне становится страшно, когда я вижу этот альбом и вспоминаю, какие мы все были глупые и бесстрашные дети. Я хочу вам кое-что показать.
– Я не понимаю, что вы имеете в виду.
– Я имею в виду войну.
Она положила на колени альбом, обтянутый не то бархатом, не то темной замшей, и с некоторой неуверенностью расстегнула металлические замочки, робко полистала толстые листы. Эти махающие листы обдавали Никитина горьковатой сладостью, тленом пожелтелой, тронутой временем бумаги – неизменный запах всех семейных альбомов. Она что-то искала среди фотографий и вроде бы сразу не могла найти, а он видел из-за ее руки мелькающие на старинном глянце незнакомые лица пожилых мужчин, строго застывших, с кайзеровскими усами, на пробор причесанных, облитых тесными мундирами, – подбородки жестко подпирали стоячие воротники, – мужчин, по-домашнему расположившихся бок о бок с белолицыми женами в белых платьях, в окружении белокурых кудрявых детей; затем на блеске знойного песка возле танка возникла фигура молодого высокомерного офицера, на пилотку накинута маскировочная сетка, новенький Железный крест мерцал под кармашком черной танкистской куртки, и Никитин спросил:
– Кто этот офицер, госпожа Герберт?
– Мой отец, господин Никитин. Он погиб под Тобруком. В африканском корпусе.
– Значит, он служил у Роммеля? – сказал Никитин. – Тобрук – это сорок второй год. А ваша мать… надеюсь, жива, госпожа Герберт? – спросил он из деликатности, в то же время не понимая, зачем она листала в его присутствии этот семейный альбом, который имел отношение к ее родственному клану или, отчего-то казалось ему, к неприятно нервному, неприятно взбудораженному вином господину Дицману, после мутных его объяснений, связанных с войной, после того, как бросил он пропитанное ядом зернышко намека на некую реальную или возможную встречу когда-то, вызвав в душе отталкивающее подозрение.
И Никитин, нахмуриваясь от сознания непредвиденно глупого положения: все разъехались, уехал в отель и недовольный его необдуманным согласием Самсонов, а он, не имея каких-либо веских оснований возразить на приглашение задержаться, остался здесь и теперь принужден был проявлять официальный интерес к родным госпожи Герберт, к чужим фотографиям в чужом альбоме, – думал о своей опасной мягкотелости, податливой нетвердости, уже раздражавшей его сейчас.
– Моя мать умерла в тридцать шестом году, господин Никитин, – проговорила госпожа Герберт. – Но не отца и мать я хотела показать вам в альбоме… Вы не устали, господин Никитин? Я напрасно вас оставила?
– Нет, нет, – ответил он, проклиная эту ненужную свою деликатность, и, злясь на себя, поморщился, потер лоб, неловко сказал ей: – Простите, голова… это пройдет…
– Вам принести таблетку от головной боли?
– Спасибо. Это пройдет.
Она виновато посмотрела мягко светящимися глазами, обе ее руки лежали на альбоме, и тоже, чудилось, в робком замешательстве она молчала, медальончик на выемке груди колыхнулся, поднятый и опущенный дыханием, и Никитин, вдруг остерегаясь ее готовности к чему-то, подумал, что она, видимо, не без колебаний, намерена сказать ему нечто новое, серьезное, важное, чего он может не знать, не ожидать, не предполагать даже. И он проговорил, слыша неестественную спокойную нотку в голосе:
– Я вас слушаю, госпожа Герберт. Вы что-то хотите мне сообщить, кажется. Говорите же…
– Да, я хочу, господин Никитин.
Она взяла сигарету со столика; он предупредительно зажег спичку, она поблагодарила его несмело улыбающимся взглядом, потом все так же робко пододвинула альбом на коленях, спросила негромко:
– Господин Никитин, вам знаком этот дом в Кенигсдорфе? Вы его немного помните?
И тотчас из глаз ее ушла улыбка, в них замерло влажным блеском, заискрилось осторожное внимание – она глядела на небольшой снимок, размером отличимый от других фотографий, вложенный в твердый пожелтевший лист альбома, где педантичной готической школьной надписью было выведено внизу:
«Кенигсдорф. Вильгельмштрассе, 7, наш дом».
Этот снимок был сделан до войны, время наложило на него тусклую серость, но изображение еще оставалось крепким, четким, и хорошо виден был двухэтажный дом, похожий на все добротные немецкие дома немецких городков, мансарда краснела черепицей в горячих лучах солнца, вблизи – сосны, утренне высвеченные на одной стороне стволов, лужайка перед домом, сочно-зеленая, подстриженная, посреди которой лежал велосипед, возле присела на корточки загорелая девочка-подросток, на ней спортивный костюм, под шапочку убраны короткие желтые волосы. Девочка присела над никелированным рулем, а он металлическими рогами торчал из травы, по-летнему густой, счастливой…