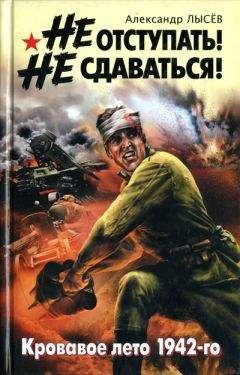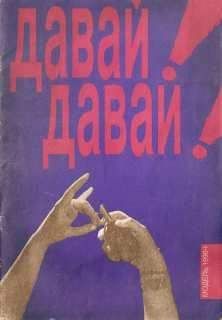Копец выслушивает мой доклад, молча кивает. Когда я дохожу до захвата «Хейнкеля», поднимает голову и его глаза не то, что сверкают, а светлеют, что ли. Как олово, когда на него солнце попадает.
— Молодец, — негромко роняет он. — Можете, если захотите…
Когда я заканчиваю, командующий еще с минуту молчит. Потом молча протягивает назад руку. Адъютант, капитан с лицом загнанного зверя, подает ему красную коробочку. Генерал тяжело встает и подходит ко мне:
— За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, от имени и по поручению Верховного Совета СССР…
Расстегивает мне ворот гимнастерки, отвинчивает изнутри медаль, и на ее место помещает «Красную звезду». Прокалывает шилом новую дырку, и «За отвагу занимает» свое место.
— Носи, сынок. Заслужил.
— Служу трудовому народу!
Он смотрит мне прямо глаза. Его губы чуть шевелятся, и я с трудом разбираю тихое, предназначенное только для моих ушей, «все бы так служили».
— Товарищ генерал-майор. Разрешите обратиться.
Он вопросительно смотрит на меня.
— Товарищ генерал-майор. Ходатайствую о награждении капитана Столярова. Если б не он, я бы один не выбрался…
Копец молча кивает, показывая, что прием окончен. Я козыряю, и строевым шагом выхожу прочь. «Красная звезда»? В самом начале войны? А не плохо, совсем не плохо! Если так пойдет дальше — быть мне Героем!
Когда я спускаюсь по ступенькам крыльца, сзади раздается голос:
— Поздравляю, старший лейтенант.
Сзади, широко улыбаясь, стоит мой следователь, Таругин.
— Здравия желаю, товарищ майор… — тут я замечаю ромбы в петлицах, — извините, товарищ старший майор государственной безопасности.
— Здравствуй, здравствуй, старлей, — он сильно пожимает мне руку, — наслышан о твоих подвигах. Ну, что, — он улыбается еще шире, — может, в гости зайдешь, орден обмоешь?
Улыбаться-то «особист», улыбается, вот только что это у него глаза холодными стали? Ну, ясно: от такого приглашения не отказываются. Но попробовать обратить все в шутку имеет смысл. И я улыбаюсь в ответ:
— Зайду, если пригласите, товарищ старший майор государственной безопасности.
— Тогда прошу.
Он приобнимает меня за плечи и ведет в соседний дом. А рука у него тяжелая, и, видно, очень сильная.
В комнатке, куда мы входим, перед ним навытяжку встает рослый детина с двумя «кубарями» — сержант государственной безопасности.
— Рожнов, ну-ка доставай чего есть. Орден обмывать будем. А ты садись, Столяров, садись. Располагайся, будь как дома.
Голос вроде веселый, но вот глаза… две льдины, а не глаза!
Таругин споро выставляет на стол бутылку водки, тарелку с нарезанным салом, кольцо колбасы, несколько ранних малосольных огурчиков, миску с мочеными яблоками и буханку армейского хлеба, порубленную крупными ломтями. Странно, а я думал, что в штабе фронта лучше живут. Из всего угощения на столе только банка судака в томате — что-то особенное. А все остальное — да у нас в столовой лучше кормят.
Он разливает водку по стаканам:
— Ну, давай по первой за то, чтобы не последний! — и первым смеется своему немудрящему каламбуру.
Я смеюсь вместе с ним, а сам все смотрю на его глаза. Ох, какие же у вас глаза, товарищ старший майор государственной безопасности.
— Пей, пей старший лейтенант. Молодец, вот молодец! Учись, Рожнов, как немцев бить надо. Его сбивают, а он, вместо того чтобы в плен как эти предатели идти, у немцев взамен своего их самолет угнал! Я вот только понять не могу: как это ты, старший лейтенант на такое отважился? Я бы не рискнул.
Вот оно. Его глаза впиваются в меня как две иглы.
— Да я бы сам и пытаться не стал, товарищ старший майор государственной безопасности. Если б один был — ни за что бы, не дёрнулся. Снял пулемет, пристроился бы у дороги, да постарался б прихватить с собой гадов побольше. Да вот не поверите, родного брата встретил — капитана Столярова. Он у немцев автомобиль угнал, а я что, тупой? Стыдно было перед братом дураком выглядеть или труса праздновать, вечно он старший, а я позади… Да и то, сперва-то я за смертью шел: больно уж не охота было в плен попадать. Я — коммунист, и ничего хорошего меня у немцев не ждет. Честно говоря, в плен попасть больше, чем смерти боялся. Мы ж, товарищ Таругин, хотели, — в руке у меня оказывается стакан с водкой. Выпив, я чувствую, что захмелел основательно, и язык уже болтает сам по себе, — хотели на аэродром напасть, поговорить с немцами по душам, напоследок. Старший мой, Сашка — он здорово на немцев озлился: они его товарища повесили, пленных добили, а девчонок наших… Ну, вот и пошли он — мстить, а я — за смертью… Умирать одному страшно, а вдвоем, сами знаете — вроде и не так…
— Да, понимаю. — Таругин утвердительно кивает головой. — На миру и смерть красна. Но такое ты мне говори, отцу своему говори, а больше, — он строго смотрит на меня, — а больше никому! Ни-ко-му! Понял?!
Вообще-то, не понял, но на всякий случай я киваю головой. Однако, эк меня развезло… Правда, это после двух бессонных ночей…
— Все-таки не сообразил… Рожнов! А ну-ка, скажи старлею: почему он свой подвиг совершил?
Сержант НКВД вытягивается и четко, как на докладе, рапортует:
— Настоящий большевик даже в самой сложной обстановке действует так, чтобы нанести врагам Всесоюзной Коммунистической Партии наибольший ущерб.
— Вот. Так и говори всем, понял?
— Так точно.
— Вот и молодец. А ну, по третьей — за победу!..
После такого «гостеприимства» я с большим трудом залезаю в кузов полуторки и забываюсь тяжелым хмельным забытьем на куче мешков в углу. Жаль только, что до нашего полка ехать недолго…
* * *
Однако в расположении штаба полка просыпаюсь почти трезвый. Проспался. Короткий ритуал представления — и здравствуй родная эскадрилья. Правда, есть одно «но»…
Забивалов успел шепнуть мне, что из моей эскадрильи домой вернулся только Митька Кузьмин, да и он дополз до аэродрома только чудом. Машину изрешетили так, что восстановлению она не подлежит.
— Здравия желаю, товарищ старший лейтенант! Поздравляю с наградой!
Мой механик цветет, будто это его наградили. Пожимаю ему руку — и замираю на месте от удивления. Эт-то еще что такое?! На аэродроме расположились целых девять «Илов». ДЕВЯТЬ! Откуда такое богатство?
— Товарищ старший лейтенант, — проследив за моим взглядом, поясняет парень, — это остатки соседнего полка.
Ясно. Их тоже потрепали, вот нас и объединили. Интересно…
— Ну, и какое звено прикажете принять, товарищ комэск? Или я на звено не гожусь?
— Не ерничай, — знакомый командир усмехается. — Комэск — ты, а я у тебя снова адъютант.
О, как! Все возвращается на круги своя…
— Ну, это ненадолго. Пополнение прибудет — и до свиданья, товарищ адъютант.
— Улита едет — когда-то будет! — майор хлопает меня по плечу. — Ну, орден-то обмывать будешь? Или зажилишь?
Кажется, Максим Леонтьевич, уже успел «освежиться». Эх, хороший он летчик, но вот водка… Да уж ладно, сегодня можно.
— Много у меня недостатков, Максим Леонтьевич, но жадность, вроде бы не была в списке, а?
В автолавке военторга водки нет, и я забираю, всё, что есть — пять бутылок коньяку. Теперь — в столовую, за ужином и обмоем. По дороге рассматриваю бутылки — коньяк хороший, армянский, раньше мой отец всегда такой покупал. И называл его «шустовский». Помню, он рассказывал, что этот коньяк делали еще до революции, и это, пожалуй, единственное, что было хорошего при царе.
В столовой уже сидят семеро летчиков. На столах — тарелки с мятой картошкой, жареным мясом, ранними огурцами. Лобов входит первым и, шагнув с порога вбок, резко командует:
— Товарищи военлеты!
Семеро вскакивают, с грохотом отодвигая стулья. Кузьмин смотрит на меня с обожанием и восхищением. Ну, еще бы: его первый командир, который даже называл его «толковым пилотом».
Я выставляю на стол коньяк. Бывший комполка поясняет:
— Это — чтобы ордена поливать. Без поливки ордена засыхают и нового урожая не увидишь! — он громко хохочет над своей немудреной шуткой и кричит подавальщицам, — девушки, стаканы!
Появляются стаканы, булькает вязкая ароматная жидкость и мы поднимаем первый тост:
— Давай, комэск, чтоб следующая звездочка золотой была! — громко произносит майор. — И чтобы нас в следующий раз не обходило!
— Спасибо, Максим! В следующий раз, если все хорошо пойдет, на всех представления напишу!
— Слово?
— Слово!
Кузьмин приятно пунцовеет, то ли от выпитого коньяка, то ли от радужной перспективы, и тихо говорит:
— Товарищ комэск, но ведь вы — герой, а мы? Чего ж на нас писать?
— Не знаю, как другие, а ты, Митя, точно герой. Уж который раз от смерти уворачиваешься.