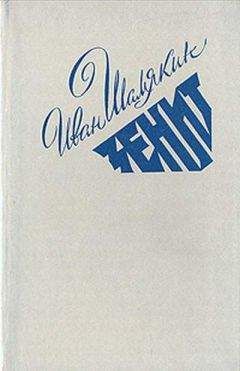— Глаза у вас красивые, — поправился я. Она мягко улыбнулась и согласилась:
— Глаза у меня красивые.
И снова простой искренностью своей подарила мне новую порцию радости. За нее. За себя. За Лиду. И смелости. Что мне бояться Тужникова, когда у меня такой защитник — Константин Афанасьевич?
Получил в секретной части ящики с документами партийного и комсомольского бюро. Обитые жестью, наполненные бумагами, весили они пуда по два, но нес я их с неожиданной легкостью, играючи. Чуть ли не подпрыгивал. Шедший навстречу Муравьев остановился и смотрел мне вслед: проницательный учитель на лету поймал необычное настроение ученика.
Надежды мои оправдались. Пришла Лида. Пришла так быстро, что я даже растерялся. Бежала от батареи, что ли? Явно бежала — появилась раскрасневшаяся, хотя не запыхалась. Глаза ее весело искрились, когда, постучав в дверь, получив от Колбенко разрешение, она остановилась на пороге, с солдатской бравостью вскинула руку к пилотке:
— Товарищ старший лейтенант. Младший сержант Асташко прибыла в ваше распоряжение.
Мы с Константином Афанасьевичем разбирали бумаги, каждый свои, чтобы очистить ящики от черновиков, старых газетных вырезок — чувствовали, начинается новый этап нашей военной жизни, а в новую жизнь нечего тянуть старое хламье. Парторг поднялся из-за стола, поправил ремень, подтянулся. Осмотрел Лиду внимательно и строго — так, что она смутилась и тоже глянула на сапоги свои, на юбку. Сапоги были запылены, и она оправдалась:
— Пыльная дорога, товарищ старший лейтенант. Да и почиститься не было когда.
Колбенко в ответ засмеялся:
— Посмотри, Павел, какую красавицу прислал нам Данилов. Вот щедрая душа! Даже неловко приказывать тебе пол мыть. На бал бы тебя — королевой. Да и вообще ты в королевы годишься.
— Всегда вы шутите, товарищ старший лейтенант. — И снова посмотрела на свои ноги.
Но в этот раз, вероятно, потому, что на ноги ее смотрел я. Мое внимание привлекло забинтованное колено. Подмывало сочувственно спросить, где она сбила колено. Но постыдился парторга.
— Танцевать любишь?
— Люблю.
— В таком случае давай договоримся: первый танец — со мной. Согласна?
— Когда?
— После войны, — сказал я.
— Ну и сухарь ты, комсорг. Ты же замучил их своими нудными докладами. Ты хотя бы раз организовал танцы? Придется на себя взять твои обязанности. Обещаю: в ближайшие нелетные дни устроим дивизионный вечер танцев. Так и передай девчатам. Пусть готовятся. С призами лучшие финские духи…
Нет, смотрел я не на бинт — на здоровое колено: какое оно белое, красивое! От странного чувства даже заняло дыхание. Понимал: неприлично так смотреть на девичье колено, но пересилить себя не мог. Звенело в ушах, и я пропустил какую-то шутку Колбенко, от которой Лида засмеялась.
Мое таинственно-непонятное волнующее внимание к Лидиным коленям сразу исчезло, как только Колбенко с командирской заботой спросил:
— А колено где ты сбила?
— О снарядный ящик при разгрузке баржи.
— Не болит?
— Нет. Царапнуло.
— Тогда берись за работу. Сегодня, как видишь, не до танцев.
Константин Афанасьевич поднялся, прихватил связку отобранных для уничтожения бумаг, пошел в другую комнату.
Я по-детски взял Лиду за руку — так мне хотелось дотронуться до нее, поздороваться, не побоялся даже, что Колбенко заметит, — и повел ее следом за ним как невесту.
— Не могу сообразить, зачем они набросали везде столько бумаг. Собери ты эти их бланки… Что они подсчитывали тут? Дежурства? Выпитую эрзац-водку?
И, как бы давая понять, куда девать их, эти финские бумаги, Колбенко открыл дверцы грубки и сунул туда свою пачку — черновики докладных, над которыми я корпел не одну ночь. Парторг, как бы оберегая мое авторское самолюбие, никогда не уничтожал рукописи сразу после перепечатки их Женей Игнатьевой на машинке. Но не впервые объявлял «стахановскую вахту» по очистке наших железных ящиков и тогда уже становился безжалостным к любой бумажке, которую не нужно было возвращать в штаб или политотдел, — выбрасывал мазню с саркастическими прибаутками. Создавалось впечатление, что бумаги он вообще ненавидел.
Некоторых документов было жаль: в них же история дивизиона. Однажды я сказал об этом Колбенко, но он иронически засмеялся:
— Не заражайся от Тужникова. Тому хочется хоть как-то втиснуться в историю. А история — баба мудрая, ее не задобришь. Она сама выбирает себе любимцев.
Лида распоясала ремень, засучила рукава гимнастерки, расстегнула воротничок.
— Можно сапоги снять? Ноги горят. Так хочется походить босой.
Колбенко игриво присвистнул:
— Давай. Принимаем любые твои условия.
Мне хотелось остаться с Лидой. Но я почему-то постеснялся наблюдать ее разувание, хотя сто раз видел, как девчата обуваются и разуваются. Когда был командиром орудийного расчета, учил установщиц трубок правильно наматывать портянки, чтобы не натерли мозолей на строевой. В то время еще не выдавали девушкам теплых носков, только простые чулки.
Ящики свои мы очистили, но Колбенко явно нарочно, с несвойственным ему педантизмом складывал в финские папки-скоросшиватели нужные бумаги. Меня даже немного раздражало, что он как бы любуется этими папками, собранными мной еще в Медвежьегорске. Подмывало пойти поговорить с Лидой, помочь ей. Хотя были у меня с парторгом самые искренние, доверительные отношения, но все же я чувствовал себя с ним как сын с отцом — далеко не все мог позволить себе. И я вынужден был по примеру своего патрона сшивать протоколы комсомольских собраний, которые проводились на батареях, в прожекторной роте, в штабе, в парковом и хозяйственном взводах. Делал вид, что прочитываю некоторые. Особенно интересные протоколы писали Игнатьева и Хаим Шиманский. Хаим, учившийся только в еврейской и польской школах, по-русски писал фантастически безграмотно, однако с комической образностью, с такими деталями, что Колбенко не только сам аккуратно читал его протоколы и при этом хохотал, но, бывало, веселил ими Кузаева, Тужникова и Шаховского; младшим офицерам не читал, были среди них болтуны, и смех их мог бы оскорбить хорошего парня, лучшего командира орудия.
Колбенко, исчерпав мое терпение, закрыл свой ящик и пошел во двор. Я сразу же шмыгнул в комнату, где работала Лида. Она стояла на коленях между топчанами, подметала под ними финским веником из какой-то заморской южной травы. Мы с Колбенко, вынося топчан, даже удивились: это же надо лесному государству покупать бог знает где веники.
Лида, увидев меня, быстро поднялась, поправила юбку и застыла — босая, с веником в руке, в расстегнутой гимнастерке, в разрезе которой белел бюстгальтер.
Она смотрела на меня ласково, приглашающе, но немного и испуганно. А у меня загремело сердце, кровь ударила в виски, перед глазами закачался голубой туман. Разве не розовый? Нет, голубой. «Я поцелую ее. Сейчас же. Первый раз».
Она поняла мое намерение. Она ждала. Но я, вероятно, стоял слишком долго в нерешительности все то время, которое необходимо, чтобы первый порыв, стихийное чувство сменилось рассудительностью.
Наконец я шагнул к ней в том же тумане, пугаясь стука собственного сердца.
Лида бросила веник, развела руки, показывая мне ладони. Сказала спокойно, просто:
— Не нужно, Павлик. Потом. Смотри, какие грязные у меня руки. Разве можно с такими…
Руки не намного чище и у меня. Когда я их мыл? После разгрузки баржи ополоснул в озере. И правда, разве можно с такими руками. Эта мысль — как холодный душ. Я остановился. Утих звон крови.
— Я так рада, Павлик, что ты позвал меня. «Не я, Данилов прислал».
Но пусть думает, что я.
— Мне так хотелось увидеть тебя. Как я боялась, когда ты поплыл на той барже! Вас бомбили? Правда, ты сбил самолет?
— Сбил.
— Тебе дадут орден. А для меня нет лучшей награды, чем известие об освобождении моего Грибовца. Как ты думаешь, могли уже нас освободить? Могилев взяли. И Бобруйск. А мы между Могилевом и Бобруйском. Только немножечко на север. Ты бы знал, как я волнуюсь: живы они там? Мои. Мама. Братья. Когда я здесь уберу, позвольте мне остаться у вас на часик и написать письма. На батарее не дадут. Я начала писать на барже. Но написала только маме и сестре в Кировск. А я хочу написать всем родным — в Могилев, в Бобруйск. Теткам своим. Дяде — в Осиповичи. И в свой сельсовет. Если что, ответят из сельсовета. Павлик! А вдруг их нет? — Она прижала руки к груди. — Как жить потом? Как жить?
— Успокойся. Не могли же они всех… Мои ведь тоже недалеко от вас. Только что по эту сторону Днепра… живые ведь! Дважды били шомполами отца, но не расстреляли.
— Ты счастливый, Павлик. Ты счастливый.
Хлопнула дверь. Мы притихли. Лида выглядела немного сконфуженной. А я слушал знакомые шаги Колбенко с лукавым озорством: интересно, что скажет Константин Афанасьевич на брошенные мною бумаги и на побег к девушке? Неужели смолчит? Вряд ли, не в его характере.