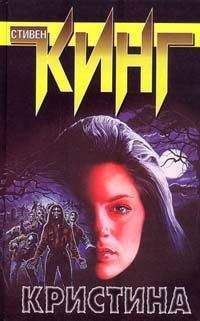И снова проходили долгие дни и бесконечные бессонные ночи. Выздоравливающие после тифа испытывают ненасытный голод. Соседки мои то и дело открывали посылки и непрерывно что-то жевали. Все еще трудно было привыкнуть к виду этих голых, покрытых нарывами тел, этих несчастных полулюдей. Вся энергия выздоравливающих была направлена только на то, чтобы достать горячей пищи, чтобы уговорить ночную сиделку сварить что-нибудь за продукты из посылок. А это было возможно только ночью. И вот долгими ночными часами ждали мы супа. Наконец под утро сиделка приходила с дымящимся закопченным горшком. Мечта осуществлялась. Отовсюду глядели полными зависти глазами послетифозные, тоже с таким же ненасытным аппетитом. Но те, что ели суп, к этим взглядам были уже нечувствительны.
Снова я попыталась сойти с койки. С помощью соседок сделала несколько шагов. На третьем ярусе я увидела пани Марию, мою и Зосину знакомую, милую, культурную и добрую пани Марию. Она заметила меня, с трудом подняла голову.
— Пани Мария, вы знаете, что Зося?..
Кажется только в эту минуту я отчетливо поняла, что Зоси больше нет. Спазма сдавила мне горло. Ноги подкосились. Голые тела завертелись перед глазами. Меня отнесли на койку. Я проплакала всю ночь.
Это было 1-ое января. Вечером в наш барак принесли Янку. После тифа и дурхфаля она заболела рожистым воспалением.
Я подошла к ней.
— Янка!
Она взглянула на меня. Лицо ее, измученное страданием, сильно изменилось.
— Янка, это я, Кристя.
— Я узнаю тебя, Кристя, вижу тебя, не беспокойся, я еще вернусь к ребенку, я должна вернуться. Только бы получить посылку. Не знаю, что за причина, почему не посылают? Не было еще ни одной.
— Конечно, Янка, ты вернешься…
Но я видела, что ей уже не вернуться домой, что это наш последний разговор.
Санитарки в нашем ревире праздновали Новый год. Пели, смеялись. Вдруг все умолкли; кто-то просил: «Тише! Тише!» Это Марыся читала стихи Слоньского… А затем — мои лагерные стихи:
Я письма пишу тебе, мама,
раз в месяц, официально,
в них текст всегда тот же самый,
известный всем, банальный:
что я жива и здорова,
спасибо за передачи —
но знаешь, что каждое слово
в письмах лживо, что все иначе.
Пришла пора иная,
романтику черти съели,
ты знаешь, о чем мечтаю?
О чистой мечтаю постели.
И так бы еще хотелось
горячей воды из крана…
Ах, мама, все мое тело —
одна огромная рана.
Вши, блохи меня съедают,
и я от бессилья плачу,
а там, на свободе, знают,
что слово «дурхфаль» значит?
И можно идти поляной,
что-нибудь напевая.
Ах, ты не знаешь, мама,
порой тоска какая…
Мечусь я в бессилье и муке,
такое безумье находит,
протягиваю в тьму руки
к жизни… к свободе…
Потом кто-то крикнул:
— С новым годом, с новым счастьем! Пусть будущий год принесет нам свободу, а им смерть!
В день нового года мы получили вместо брюквы картошку и капусту. Я уплетала эти королевские яства с огромным аппетитом. Вдруг до меня донеслось:
— Опять кого-то выносят.
Я сразу взглянула в ту сторону, где лежала Янка. Почувствовала, что это ее выносят: Она умерла в новогоднюю ночь.
Несколько минут спустя шрайберка вызвала номер Янки. Кто-то ответил: «Нет ее, она умерла ночью». Янке пришла наконец посылка. Первая посылка. Новогодняя. От доченьки.
Блоковая ревира заявила, что будет санобработка. Новая беда. Это значит, заберут одеяла. Это значит, будем мерзнуть. Это значит, что нас могут голых послать в зауну. Мы ведь знали, что санобработка только предлог. Очевидно, эпидемия уносила недостаточное количество жертв. «Ариек» теперь не умерщвляют газом, поэтому надо придумать что-то, чтобы смерть собрала еще большую жатву и чтобы это выглядело культурно, гуманно.
Но на этот раз нас не погнали в зауну. Просто забрали одеяла на целые сутки и открыли настежь бараки. Большинство тех, которым удалось выжить после тифа, умерли после такой «санобработки», получив воспаление легких.
Умирали одна за другой. Умерла Ната. Она вынесла все: избиения, допросы, апели, голод, тиф, а доконал ее дурхфаль — напилась грязной воды. Она звала нахтваху, но та не приходила. Не слышала или не хотела.
Я подошла к Нате.
— Как ты себя чувствуешь, Ната?
— Все будет хорошо, — ответила она. — Уже скоро… будет хорошо… я уверена.
— Ната! — вскрикнула я. — Тебе нельзя умирать… ты выздоровеешь. Только не пей воды.
Я сама не понимала, что говорю. Ведь смерти не прикажешь. Ната угасала на глазах. Но я должна говорить с ней, пока она меня слышит. И я говорила ненужные, нелепые слова, я просила не оставлять меня одну. Зачем я не умерла, зачем я должна пережить еще и ее смерть и, кто знает, сколько еще других… Ната все меньше понимала меня. Едва слышно что-то шептала, я наклонилась над ней.
— Итак, просто-напросто сгнить в земле, неужели для этого…
Дальше я не расслышала. Ната не договорила. Умерла.
Не раз потом мы вспоминали Нату. И о том, как ее били, и о том, что, несмотря ни на какие муки, она никого не выдала. И о том, что она была уже почти здорова и всегда всегда улыбалась людям. И что если суждено ей умереть, то почему не сразу там, в Павяке, а после стольких мучений? О ней говорили шепотом, как о настоящей героине.
В наш блок принесли несколько грудных младенцев. Матери их уже работали. Одного где-то под бараком родила греческая еврейка. Ребенка никто не кормил. И для своих молока не было. Да и к чему было его кормить? Как только будет обнаружено, что это дитя еврейки, смерть ждет и его и мать. Ребенком никто не интересовался. Он плакал, скулил, слабел, распухал и наконец умер. Все вздохнули с облегчением.
Однажды в ревире, где постоянно кто-нибудь умирал, оаздался слабый крик ребенка. Родила опять еврейка. Дитя родилось на редкость здоровым и красивым.
— Не дам ему погибнуть, не удушу, — заявила мать. — Это мой первый ребенок, он должен принести мне счастье. Помогите мне. Я верю в чудо, мое дитя выживет.
Она говорила так убежденно, умоляла так страстно, что ей решили помочь. Удивительнее всего было то, что у матери оказалось достаточно молока.
Санитарка Эльжуня обещала скрывать ребенка, насколько хватит возможности. Матери приписывали вымышленную высокую температуру, а ребенка во время неожиданных визитов эсэсовцев прикрывали сенниками. Ребенок рос, ему уже исполнился месяц.
Как-то ночью мать проснулась с криком. Подбежала Эльжуня.
— Мне снилось, что он умер… — прошептала женщина.
Утром пришел приказ, чтобы всех евреек выписать из ревира в блоки независимо от их состояния здоровья. Надо было сказать об этом и молодой матери. Ни у кого не хватало мужества.
Кроткая, спокойная доктор Фрума с трудом где-то достала снотворное и вспрыснула ребенку. Обезумевшую от горя мать вытащили из ревира.
Я стала самостоятельно передвигаться по блоку. Я не верила, что выйду когда-нибудь из ревира. Забыла уже об апелях, о работе. Зато привыкла к стонам, к смерти, к добыванию теплой воды. Научилась выменивать яблоки на грудинку, хлеб на картошку и отвоевывать себе иногда ночью место у печки. Я торопливо открывала получаемые посылки и съедала их с невероятной быстротой. Научилась часами лежать и ни о чем не думать. Свобода стала для меня понятием нереальным. Свободу уже невозможно было припомнить. Невозможно было представить себе то время, когда мы на что-то имели право, тот мир, где были улицы, по которым можно ходить без всякого запрета, где были близкие люди, которым можно пожаловаться, где были аптеки, в которых отпускалось лекарство. Неужели это было на самом деле? Все глубже укоренялась мысль, что жизнь моя здесь и должна кончиться, что это только вопрос времени. Иногда вдруг, мелькала мысль: неужели где-то существуют люди, которые сидят сейчас у стола и играют в бридж или разговаривают о том, что разбилась чашка от сервиза? Или катаются на лыжах. Неужели есть где-то люди, у которых имеется оружие и они могут действовать? А мы? Мы должны покорно умирать, одна за другой. Это были слабые отголоски бессильного душевного бунта. Все смирились и, напрягая последние силы, тянули лямку.
Из этой апатии нас выводили лишь исключительные события, вроде, например, визита немецкого врача. Это случалось очень редко. Когда он приходил, весь ревир бывал охвачен паникой. Из блока в блок шли депеши.
Торвахи уведомляли друг друга, давали знать блоковым.
Оказавшийся в ревире «чужой», то есть человек не из обслуживающего персонала, убегал как можно скорее.