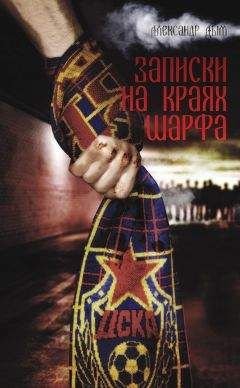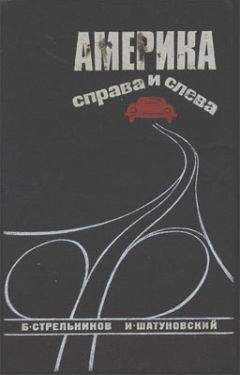Так он размышлял и вдруг увидел в смотровую щель приближающихся людей. От неожиданности он даже вздрогнул: фашисты шли плотной цепью с автоматами и не стреляли. Он подавил в себе волнение и, напружинившись, смотрел на врагов уже холодно и с расчетом. Только не спешить, только не волноваться, подпустить их как можно ближе и ударить в упор. Фашисты шли и громко переговаривались: они, видимо, решили, что в танке нет способных к бою людей. Они шли в полный рост — человек пятьдесят — как на параде, готовые к легкой добыче.
Федор подпустил их как можно ближе, почти вплотную. Тут уж он не боялся промаха и нажал на гашетку пулемета. Враги начали падать один за другим, некоторые короткими перебежками повернули назад. Он бил им в спины, и они снова падали: кто — лицом в снег, кто — на бок или на спину, вскинув автомат и отбросив его в сторону, как ненужную палку.
— А, гады! Получайте сполна!
Так он отбил первую атаку. Вторично враги не посмели пойти открыто, они поняли, что танк жив, и решили взять его во что бы то ни стало. Федор заметил, что фашисты избрали совсем другой маневр. Они редкой цепочкой, полусогнувшись, стали пробираться стороной, справа. «Ага, — догадался он, — хотят зайти в тыл, окружить и поджечь. Ничего не получится, господа хорошие». И он резко развернул башню, полоснул длинной очередью. Фашисты залегли. Потом он увидел, что и с левой стороны появились враги. Их тоже заставил прижаться к земле.
Потом еще была атака. Потом еще… Он уже не помнил, сколько времени шел бой. И уже вечером, когда наступили сумерки, произошло несчастье: вражеский снаряд ударил в башню. От страшного толчка Федор чуть не вылетел из сиденья, в глазах у него зарябило, а в горле застрял комок, перехватив дыхание.
Он взялся за рычаги, башня не повиновалась: ее заклинило. «Ну, вот и конец», — подумал он и заскрипел от ярости зубами. Бой вроде бы затих, переместился куда-то вправо, туда, где проходил большак. Вблизи как будто бы все замерло. Он глядел в смотровую щель и ничего не мог различить в темноте. Усталость давала себя знать, веки слипались, он растирал глаза, но голова невольно падала на грудь. И Федор на какое-то время забылся, почти заснул чутким, непродолжительным сном. И вдруг тревожно встрепенулся. По башне кто-то стучал, выкрикивая:
— Рус, рус, капут!
«Я тебе дам «капут», — мелькнуло у него в голове, и он машинально схватил гранату. По спине пробежал холодок. Он понял, что обложили словно медведя в берлоге. «Умирать так с треском», — подумал он, выдернул чеку, резким движением левой руки открыл люк, а правой выбросил гранату. В следующее мгновение он услышал резкий разрыв и раздирающие душу стоны раненых. «Ага, вот вам и «капут», — обрадовался он и в тот же миг высунулся из люка и с яростью выбросил вторую гранату…
Потом все потемнело у него в глазах. Он мешком, грузно опустился на сиденье и потерял сознание…
Очнулся от сильного толчка и вздрогнул. «Что такое? Что? Неужели случилось непоправимое, самое страшное, чего я боялся больше всего?» Да, танк вздрогнул и тронулся с места; он услышал, как лязгнули и медленно задвигались гусеницы. «Значит, плен, а может быть, и смерть. Все может быть…
Мысль его судорожно работала, он искал выхода и не находил, был настолько слаб и беспомощен, что правую руку едва дотянул до лба, потом еще чуть выше и почувствовал на ладони шершавость запекшейся крови. «Значит, ранен и в голову», — подумал он и снова провел по волосам ладонью. Да, волосы слиплись — видимо, царапнуло осколком, и может, от этого удара в голову он и потерял сознание. Потом вдруг его осенила шальная мысль: а что если завести мотор, — ведь это сердце машины, а если заведется, значит, можно сопротивляться этой дьявольской силе, остановить движение, а по возможности и повернуть его вспять.
И он включил зажигание, выжал сцепление, слабеющей рукой взялся за рычаг скоростей и включил задний ход. И вдруг почувствовал всем своим телом, что танк уперся, слегка вздрагивая от напряжения, встал на месте. Потом он выжал газ почти до предела. И — о чудо! Его тяжелый «КВ» тронулся, потянул за собой фашиста, потянул в противоположную сторону, туда, к своим. «Тяну! Тяну! Я сильней его, намного сильней! Только бы выдержать! Только бы не потерять сознание!..» И силы, покидавшие его, вновь воскресали…
Потом были объятия друзей, когда его, полуживого, вытащили из танка. Он слышал взрывы смеха, возгласы восхищения, слышал, словно бы в полусне:
— Тягач приволок!
— Фашистский…
— Целехонький и с фрицем!
— Пересилил, значит! Перетянул!
Потом он потерял сознание и уже больше ничего не слышал. Очнулся в медсанбате, на операционном столе. Хирург сказал:
— В розовой рубашке родился, лейтенант. Первое ранение в ногу так себе, пустяковое. А вот второе — в шею. Чуть бы повыше — и каюк! — Немного помолчал и добавил: — Жить будешь…
— А воевать? — спросил он еле слышно.
Хирург усмехнулся:
— С полгода поваляетесь. А там, — он немного подумал, — там видно будет. Комиссия определит.
Пролежал Федор Гаврилов в госпитале пять месяцев, а еще через месяц снова был на фронте. Дошел до Берлина, поставил свою подпись на стене рейхстага.
Прошло много лет. Федор Гаврилов приехал из далекого сибирского города Красноярска в древний Новгород. Первым делом он пошел в кремль, осмотрел древнюю Софию, памятник Тысячелетию России и, подойдя к главному зданию музея, вдруг остолбенел. Невдалеке от парадного входа, на постаменте, стоял, блестя свежей зеленой краской, танк. Сердце старого танкиста дрогнуло. Да, это был танк, только не его тяжелый «КВ», а знаменитая «тридцатьчетверка». На такой машине он воевал позднее. Он смотрел на «тридцатьчетверку», и воспоминания роем нахлынули на него. И ему непременно захотелось побывать в тех местах, где он воевал, где принял страшный и неравный поединок с фашистами и победил. Сразу же после осмотра музея он нанял такси и поехал.
Он долго искал то место: плутал по перелескам минут тридцать, а потом все же определил и то болото, где его танк попал в трясину, и лес, уже сбросивший свою листву. Нашел он возле дороги и братскую могилу с мраморной плитой. На плите была краткая надпись: «Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость Советской Родины». Стоя у могилы, он вспомнил своих боевых друзей, пытался воскресить в своей памяти их лица, голоса и жесты, мысленно как бы встретился с ними и, смахнув с ресниц невольную слезу, отвесил низкий поклон.
— Спите спокойно, друзья! — сказал он тихо. — Мы вас никогда не забудем.
Потом неторопливо подошел к перелеску, что стоял в молчаливом трауре тут же, неподалеку, сразу за канавой, отломил еловую ветвь, вернулся к братской могиле, снова долго стоял и вспоминал боевых друзей. Поклонился еще раз и положил еловую ветвь на мраморную плиту.