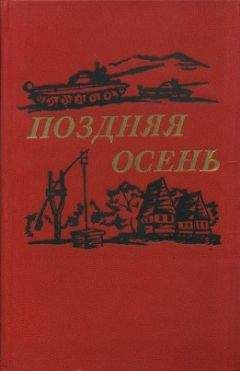Думитру уточнил координаты и приготовился передать их орудиям, когда вдруг увидел деда Василе, который кряхтя нес огромный снаряд. Да, то был не кто иной, как дед Василе, брат его дедушки. Василе нес продолговатый, огромный предмет к другим номерам расчета, еле шевелившимся вокруг орудия. Кажется, все они были такими же стариками, как дядя Василе, стариками из его села, среди них был и его отец. Они с трудом осторожно переступали с ноги на ногу вокруг широкого орудийного лафета.
Отец в сдвинутой на затылок дымчатой кэчуле шел к нему и говорил: «Митря. сынок, если будем стрелять, попортим кукурузу. Селяне думают, что это плохо, это грех, может, эти немцы и так уйдут, может, и им не хочется надоедать другим, я думаю, не надо стрелять». «Отец, я здесь командую, выполняй приказ, это тебе не игрушки. Ты сам под Мэрэшешти как действовал?» — «Да, но селяне просят подождать, чтобы сначала убрать кукурузу, жаль ее. Скажи и ты ему, Василе». — «Да, Митря, твой отец прав, люди ушли на поле убирать кукурузу, как можно стрелять в них?» — «Дядюшка Василе, мы в немцев стреляем. Никулае позвонил мне и сказал, что если мы не будем стрелять, то немцы будут стрелять в нас». — «Сыночек, Никулае, наверное, ошибся, откуда здесь немцы? Мы побили их двадцать с лишним лет назад, что им здесь нужно, опомнись, послушай нас, мы ведь знаем, что наши пошли убирать кукурузу, нельзя стрелять, ты разве не слышишь, как скрипят кэруцы, кони перепугаются…»
Он повернулся и побежал к правому орудию. А там — женщины и дети из его села. Паулина, дочь Матея Кырну, сидела на лафете и пряла. «Что ты делаешь, Паулина, отойди в сторону, здесь война». Но Паулина продолжала прясть и смеялась, смеялась и пряла. «Брось, Митря, я знаю Никулае, ему бы только шутить, не видишь, как дети играют в солдаты, где ты видишь немцев, это дети играют в своих и немцев. Скажи и ты ему, Анна». Анна, сестра Паулины, подсунув руки под передник и тоже смеясь, говорила: «Лучше, господин учитель, помоги нам закончить уборку, или ты стыдишься детей? Война давно закончилась, и, если не хочешь помочь нам, бери детей и ступай с ними в школу, а то на них, не дай бог, упадут снаряды. А ты туда же, что и Никулае». «Но ведь там, за кукурузой, немцы, Анна, ведь война!» — «А вот и нет, это вы строите из себя храбрецов», — «Да нет же, я говорю, что война». — «Послушай меня, Митря, ты бредишь. Что это, разве орудия? Поиграли мы немного с детьми, а вам взбрело в голову, ха-ха, смотри, Мария, какого серьезного он из себя строит, будто лунатик! Господину учителю захотелось пошутить, послушать сказки. Видишь, какой он чудной в форме. Учитель, мол. Лучше бы занимался своей школой и оставил нас в покое, мы сами знаем, что нам делать…»
Он проснулся весь в поту, в темноте протянул руку и ощутил под пальцами женскую косу.
— Это я, Митря, я, мой дорогой, — шепнула Магда, вся дрожа. — Не бойся! Тебе приснился тяжелый сон, да?
Думитру повернулся к Магде, приходя в себя под ласковым прикосновением маленькой ладони. Отодвинул в сторону тонкое одеяло, которым они были укрыты, и приподнялся на локте. Он различал ее словно тень на беловатом фоне стены. Обнял Магду за талию и притянул к себе.
— Магда, прости меня! Я заснул…
— Ты заснул в моих руках, Митря, не бойся. О боже!..
Он отдался во власть ее страстного объятия и еще крепче прижал к себе ее горячее тело. Через некоторое время, изнуренная, с перехваченным дыхании, Магда со вздохом проговорила:
— Теперь мне нужно уходить, мой дорогой! Уже скоро утро, мне надо домой. Мать, наверное, не спит…
— Останься еще немного. Скажи…
— Все хорошо, Митря. Я должна идти. И тебе скоро уезжать…
Магда одевалась в темноте, он слышал шуршание ее одежды. Потом он тоже встал.
— Магда, я хочу, чтобы ты все время была моей, — проговорил он. — Ты можешь оставаться здесь…
— Нет, нет, — решительно ответила она, — наши дороги должны разойтись. Каждый вернется в свой дом…
— Мой дом — война, Магда…
— Не мучай меня. Ты хочешь услышать, что только тебя я любила всегда, только тебя буду все время любить?! К чему тебе это? Прошу тебя, уезжай завтра, то есть уже сегодня, в свое село. И другие хотят тебя видеть. Я побыла с тобой, и мне достаточно. Обещай, что уедешь!
— Ты будешь мне писать?
— Нет, Митря… Я хочу, чтобы ты мог меня уважать, если еще можешь… А сейчас отпусти меня, мы поднимем весь дом!..
— Магда! — шепнул он подавленно, уткнувшись в ее плечо.
— Нет, не провожай меня… Я сама…
— Магда!
— Прошу тебя: забудь обо мне… И возвращайся здоровым с войны!
Женщина выскользнула из комнаты легко, словно привидение. Даже пес во дворе не залаял. Только Думитру, рухнув на кровать, слышал, как ее шаги постепенно растворяются в тишине. Соседский петух нарушил покой своим криком. В какой уже раз за эту ночь!
* * *
Паровоз тяжело пыхтел, хотя состав был вовсе не длинным: семь-восемь пассажирских вагонов и около десяти товарных. Окна в вагонах были закрыты, и, несмотря на прохладу сентябрьской ночи, в вагонах было душно. Кто курил, кто разговаривал, кто спал. Купе, так же, как и коридоры, были забиты людьми и багажом. У дверей, уцепившись за поручни, молча стояли несколько подростков. На вагонах, на крышах лежали или сидели скрючившись солдаты и крестьяне. То один, то другой поднимался и топал тяжелой обувью по ржавой жести крыши с продольными ребрами. Здесь нашел себе место и Никулае. Он сел в конце вагона и повернулся спиной к ветру, чтобы прикурить сигарету.
— Смотри не упади, сержант! — покровительственно обратился к нему усатый жандарм с поднятым воротником мундира. — И смотри на меня не наступи!
— Чего тебе надо? — зло цыкнул на него Никулае. — Не видишь, что ли, что я с фронта да и при оружии? Со мной разговоры коротки — мигом окажешься вон там, в кустах у линии, если будешь строить из себя начальника!
Жандарм, перепуганный, замолчал и отвернулся в другую сторону. Кто-то пробормотал:
— Так и надо этим! Правильно ты ею отбрил. Кто-то гибнет на фронте, а эти собак гоняют по селам.
— Прикуси язык, невежа! Я тебя быстро усмирю! — прорычал блюститель порядка.
Вокруг была непроглядная темень. На станциях с перронов доносились крики, ругань, мелькали бледные огни, затем снова по обе стороны проплывали едва различимые тени деревьев и темные поля за ними.
На той станции сошел только один Никулае. Сначала он медленно спустился на буфера, затем ловко спрыгнул на острые камни насыпи. Паровоз подал короткий пронзительный сигнал, состав резко дернулся с места, и вскоре его поглотила бездна. Никулае некоторое время прислушивался к шуму удаляющегося поезда, который тяжело прогрохотал по металлическому мосту через реку, потом перешел через рельсы и направился по проселочной дороге в сторону села. Путь ему предстоял не долгий, и дорога была хорошо знакомой. При мысли, что скоро будет дома, сержант почувствовал новый прилив сил.
Справа кукуруза, слева тоже кукуруза. Никулае узнавал ее по шуршанию листьев. Какая же кукуруза выдалась в этом году?! Впереди он вдруг различил очертания акаций. Вроде их тут раньше не было. Потом журавль колодца — его он тоже не помнил. Колодец был новым, бадья еще не успела потемнеть и иструхлявиться по краям: он был вырыт, видимо, несколько месяцев назад, может, в прошлом году…
Никулае остановился, перегнулся через край колодца и вытащил полную бадью воды. Выпил. Вода была хорошей. Немного горьковата, но по вкусу напоминала о доме. Закурив сигарету, двинулся дальше, охваченный нетерпением и беспокойством.
На меже он наткнулся наконец на старый колодец. Значит, он шел правильно, Попил и из этого колодца, припомнил вкус воды, и это его успокоило. Он был почти что дома. Ему захотелось закричать, выстрелить вверх или, почему бы нет, бросить одну из четырех гранат, которые у него имелись, но он испугался: как бы не задело осколками. Да и вокруг стояла такая тишина и покой, что он не посмел их потревожить. Двинулся дальше, думая о своих домашних. О тех, кто у него остался: о брате, о своей болезненной невестке.
Отец Никулае умер от ран, полученных еще в ту войну. Сам он был тогда еще маленьким и отца почти не помнил. Мать умерла несколько лет назад. Так они со старшим братом остались сиротами. И словно проклятие — через год после смерти матери поднялась, как никогда, вода в речке и снесла их дом. Братья поспешно перенесли свой скарб в старую лачугу дедушки — все равно она пустовала с тех пор, как старики умерли, и устроились там. Потом Никулае ушел на фронт. «Оно и лучше, — думал он. — Если вернусь жив-здоров, может, и я получу немного земли. С погоном [1], оставшимся от матери, как-нибудь выкручусь…»
Между тем он понял, что смысл войны совсем иной, что старшина, который еженедельно приходил к ним на батарею с большим голубым реестром под мышкой, издевался над ними.