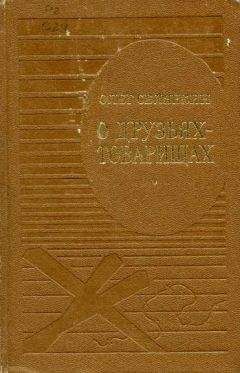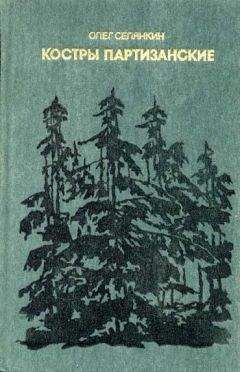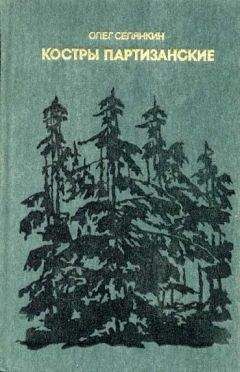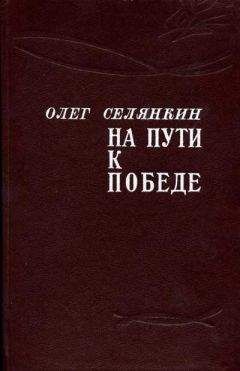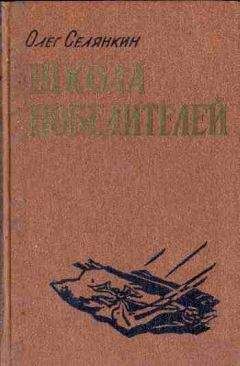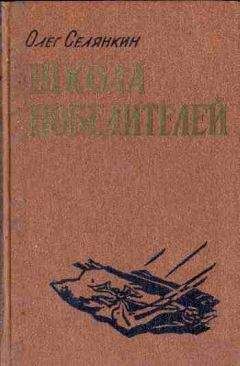Начальство уехало, а Куликов задержал нас, командиров, и спросил, что мы помним из сухопутной тактики, как науки, которой через несколько часов будем обязаны обучать матросов? Познания наши оказались более чем скромными, хотя сухопутную тактику мы изучали в училище. Почему так получилось? Дело в том, что разве мог, допустим, я (меня готовили как подводника) предполагать, что она мне пригодится? Считал ее «лишним предметом», который включили в программу нашего обучения исключительно по чьей-то прихоти, ну и постигал ее, чтобы только сдать экзамен и немедленно забыть.
Чтобы завтра занятия все-таки состоялись, мы тут же, ночью (благо была пора белых ночей), стали выскребать из закоулков памяти застрявшие там крупицы знаний, «объединять их до кучи». И ползали по-пластунски, и змейками перебежки делали, и падали по команде, и накапливались на рубеже атаки…
И тут я заметил, что рядом с нами, командирами, кто-то тоже ползает, бегает, падает. Оказывается, наши матросы, которые, завершив пеший переход, повалились на землю словно мертвые, по собственной инициативе вышли на занятия.
Мне кажется, это свидетельствует об очень многом, характеризует наших матросов с лучшей стороны.
Одну ночь и один день занимались мы сухопутной тактикой, а уже вечером, полуживые, еле доплелись до железнодорожной станции, где нас ждал эшелон. Погрузились как могли быстро. И всю ночь, почти нигде не останавливаясь, наш эшелон летел на запад. Я сидел у открытой двери теплушки и вслушивался в ночь, хотел первым уловить эхо артиллерийских залпов…
Очень трудно было нашему батальону в первые дни его пребывания на фронте: и сухопутной тактики мы по-настоящему еще не знали, и на весь батальон у нас была лишь одна топографическая карта такой древности, что на ней далеко не все деревни и дороги оказались нанесены. Но больше всего нас раздражало то, что мы уже несколько раз рыли окопы, чтобы именно здесь, как говорили нам, и встретить врага. Однако новый приказ уже назавтра вновь бросал нас куда-то.
Прошло несколько дней — все чаще и чаще, все громче и громче матросы стали поговаривать о том, что пора бы и нам вступить в бой. Куликов, которому, похоже, тоже осточертело это хождение батальона в непосредственной близости от фронта, хмурился, без нужды касался пальцами своего ордена, но по-прежнему спокойно говорил нам, командирам:
— Одно из главных качеств настоящего военного — умение ждать и выполнять приказ!
Больше недели, повинуясь приказам, метался наш батальон вдоль по фронту и чуть сзади него.
И вдруг, когда наше черно-синее обмундирование уже вобрало в себя предостаточно дорожной пыли, когда артиллерийские залпы стали для нас обыденным явлением, наш батальон послали в окопы первой линии. Это произошло дождливой ночью. Нам сказали, что мы идем для усиления какой-то армейской части, сильно поредевшей за дни боев.
В окопах, вырытых наспех и после недавней бомбежки кое-где заваленных землей, оказалось всего двадцать три человека, которые именовались ротой. Командовал ими сержант Ю. М. Тимофеев — в недавнем прошлом слесарь одного из ленинградских заводов. Одна моя рота (к тому времени прежнего командира старшего лейтенанта Самарина отозвали в Ленинград) оказалась в несколько раз многочисленнее, и невольно подумалось, что ни о каком нашем наступлении и думать нечего, пока в ротах на передовой будет столько личного состава. И еще мы сразу же прониклись самым искренним уважением к этим двадцати трем солдатам, которые здесь упорно удерживали участок фронта, предназначенный для полной роты. И даже чуть больше, чем для роты.
Остаток ночи я провел в хлопотах: проверял расстановку станковых пулеметов, глубину ячеек истребителей танков, инструктировал связных, которых мне прислали командиры взводов и соседи. Даже с комбатом попытался по телефону поговорить о планах завтрашнего боя, но в ответ услышал:
— Или сам нашей задачи не знаешь? Тогда напомню: держаться здесь, и ни шагу назад без моего приказа.
Будь я один — ответ комбата, возможно, и толкнул бы меня на какой-нибудь опрометчивый шаг, но рядом со мной, с того дня, как только я стал командиром роты, находился политрук А. А. Лебедев. Ему было около сорока лет (по моим понятиям того времени — возраст очень солидный). Сухощавый и подтянутый, он никогда не повышал голоса, на собраниях и митингах говорил как-то особенно по-домашнему — спокойно и рассудительно. И постоянная невозмутимость, и разговоры запросто — все это нам очень нравилось. Может быть, даже к потому нравилось, что мы были подводниками, то есть людьми, которые привыкли к определенным условностям, если хотите, назовите их традициями. Например, на подводной лодке, когда она шла под перископом, только командир лодки видел то, что происходило на поверхности моря, в непосредственной близости от его корабля. Вот и следили десятки матросских глаз за выражением лица командира, по нему старались угадать то, что ждет их в ближайшие секунды. Истории известны такие факты, когда по дрогнувшим мускулам лица командира матросы догадывались об опасности, грозившей лодке, и случалось так, что волнение командира лишало их спокойствия, и тогда действия, тренировками доведенные до автоматизма, вдруг становились менее четкими, лишались уверенности. А мы все отлично знали, что значило для лодки в боевой обстановке потерять хотя бы секунду. Вот поэтому и ценили невозмутимых командиров, вот поэтому и стремились быть похожими на них. Андрей Андреевич Лебедев таким качеством владел в совершенстве.
Он, Лебедев, тогда и посоветовал мне, несколько обескураженному ответом комбата, подождать до утра — благо до рассвета оставалось совсем немного, — подождать, чтобы выяснить намерения врага. Даже с этаким подтекстом посоветовал, будто я сам когда-то высказал намерение поступить именно так.
Я был молод и проглотил приманку; уже значительно позднее я понял, что это был своеобразный тактический ход опытного политработника, который хотел и умел щадить самолюбие молодого командира.
И вообще, забегая вперед, скажу, что мне, как командиру, всю войну очень везло на политработников: они неизменно оказывались человечными и рассудительными, то есть обладали теми качествами, каких мне в ту пору иногда не хватало; уж чрезмерно сильно бродили во мне тогда молодые дрожжи.
Утром, ровно в шесть, на линии наших окопов разорвалась вражеская мина, и с этого момента для нас начался первый по-настоящему фронтовой день, до краев полный минометного обстрела и бомбежек.
Когда первые мины и бомбы начали оглушительно рваться на линии окопов и даже в них, разбрасывая в стороны горячие зазубренные осколки, стало очень неуютно на земле, захотелось немедленно убежать в лес, который плотной стеной стоял почти сразу за линией окопов. Пересилил себя без особого труда, так как до невероятности стыдно было выказать товарищам свое потаенное желание.
И весь тот день фашисты то открывали огонь по нашим окопам, то внезапно обрывали его. Лишь часов около одиннадцати ночи они окончательно прекратили обстрел, теперь только разноцветными ракетами полосовали черное небо.
— Спать укладываются, — невесело пошутил кто-то из бывалых солдат.
Тогда мы не придали особого значения этим словам, но позднее и сами заметили, что в те первые дни войны, владея общей инициативой боя, фашисты зачастую (на тех участках фронта, где я бывал) пунктуально выдерживали распорядок дня, о чем мы и мечтать не смели. Даже перерыв на обед во время боя, случалось, делали!
Первый день пребывания на передовой для нас окончился сравнительно успешно: мы потеряли убитыми только трех и ранеными — восемь товарищей. Конечно, это сейчас, с сегодняшних высот оглядываясь на те давние и одновременно — еще близкие события, я могу говорить, что трое убитых и восемь раненых — малые потери. А тогда, помнится, никто в роте не мог уснуть: ведь еще утром эти трое были живы, полны сил, а теперь наспех зарыты на опушке леса. Очень тогда потрясла нас всех эта гибель товарищей.
Может быть, потому и я так отчетливо помню все это?
А на следующий день, опять начав обстрел наших окопов ровно в шесть, фашисты вдруг пошли в атаку. Она развивалась точно по науке войны: сначала они обрушили на нас шквальный минометный огонь, от которого в глазах свет померк, а потом выскочили из окопов и, строча из автоматов, понеслись на нас. В подобных случаях некоторые мои собратья по перу частенько пишут: дескать, воздух стонал от пуль. Или что-то в этом же роде. Не знаю, может быть, бывает и так. Но, насколько мне помнится, тогда просто стоял невероятный грохот, из которого выделялись лишь очень близкие разрывы мин.
Впечатляющей была эта первая для нас вражеская атака. Но мы выдержали «психический удар», дождались, когда расстояние между нами и фашистами сократилось метров до ста пятидесяти, и разом ударили по ним из всех видов своего оружия. Напомню, что наш батальон был вооружен автоматами, что в каждой роте мы имели взвод станковых пулеметов (три «максима»), а в каждом отделении — по одному ручному пулемету. И вполне понятно, что, когда из всего этого оружия мы ударили по врагу, да еще с такого малого расстояния, фашисты сразу же будто споткнулись, многие из них упали. А через несколько секунд остальные бросились уже к своим окопам.