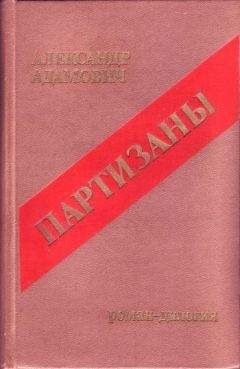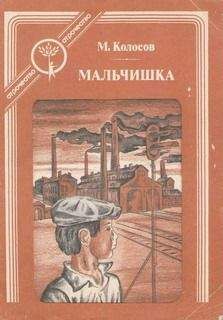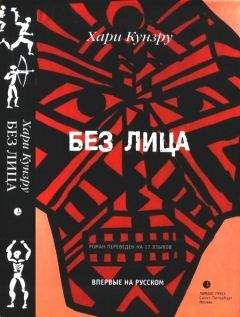Ознакомительная версия.
Теперь, со стороны, Толя видит, что глаза эти светлые-светлые, как река в жаркий полдень. И мама не только для него, но и для всех красивая, и так хорошо, что она чуть-чуть полная и что она собирает пышные темно-золотистые волосы в простой узел, и ей так идет это белое в дымчатую полосу платье с короткими рукавами. Все это Толя впервые увидел и отметил каким-то новым мгновенным чувством. И напряженный залом бровей, не распрямляющийся даже при улыбке, по-новому видел Толя. Раньше он только ощущал его: в нем как бы собиралось то, что вызывало в нем ответное чувство радости, горечи, обиды или злости. Глупой детской злости!
– Ну что, сынок? Похудел как…
Так засветиться счастьем и так чуть-чуть печально спросить могла лишь мама. Единственный в мире человек, который понимает все и которому совсем не нужно, чтобы Толя был Алексеем.
– Я его не на откорм возил, – сказал дядя, здороваясь с военным, который вышел из боковой двери, скрипя хромовыми сапогами. Военный со шпалой – Толин отец. От него исходит волнующий, хотя и несколько чужой, запах: ремни, сукно. И еще – с детства знакомый запах махорки. Ничего другого отец никогда не курит.
Толе неудобно стоять под тяжелой, обхватившей его голову рукой, но он не уходит от папы. Будь это мама, он не задумывался бы над тем, постоять или отвести руку, отстраниться. Но это отец, и Толя томится в нерешительности. Однажды он получил письмо от матери, из которого понял, что папа обижается на его «здравствуйте» и «до свидания». Оказывается, нужно еще: «дорогие», «целую». Мама понимает, что не в этом дело, а с отцом надо как-то все учитывать. Когда отец уходил на финскую войну, Толя забрался в спальню, лежал в темноте, прислушиваясь к стуку ножей о тарелки, к голосам гостей, и мучился от сознания своей черствости: он не мог плакать. Отец заметил его отсутствие и все истолковал по-своему. И мама потом сердито отчитывала Толю, но он видел, что она все понимает.
– Похудел, значит, учился, – говорит отец, больно прижимая к ремням Толину голову.
Мама, наливая воду в умывальник, отзывается:
– Что вы знаете? Иди умойся.
И, конечно, обязательное:
– Уши тоже.
Значит, Толя действительно дома.
– А это кто? – нарочно спрашивает дядя, с удивлением рассматривая Нину, которая кошкой повисла на ширме.
– Дядя, ну-у, – жалобно стонет сердитая Нинка.
– По матке скучает, – неодобрительно хмыкнула бабушка, – как малая.
– Да и не большая, дети же, – не сдержала раздражения мама и, стараясь сгладить невольную интонацию, начала пространно объяснять, что тетя Катя на курорте, что вернется она числа двадцать пятого.
А бабушка все та же, на все у нее свое особое мнение. Она выходила двенадцать детей без этих теперешних нежностей, восьмерых из них пережила и с неодобрением глядит на матерей, которые дрожат над ребенком.
– Еще бы – одно, – часто бормочет бабушка. – Было б у вас десять их – не до того было бы.
– Ну, а ты что не встречаешь гостя? – Голос дяди уже в спальне.
С Алексеем тоже, кажется, надо здороваться. Будто сговорившись, братья первые мгновения встречи заполняют какими-то посторонними словами, движениями, и вот уже упущен момент, когда обязательно нужно хватать зачем-то друг друга за руку. Алексей затягивает ремень на брюках, старательно отутюженных. На голове – гляди ты – прическа! Волосы у Алексея в мелкое колечко и сухие, чуб сваливается набок, как плохо, неумело завершенный стог.
– А, малеча явился, – произносит он довольно-таки радостно. Вообще-то он хороший парень, и дело совсем не в том, чтобы обниматься и лизаться.
Толя пошел поздороваться с дедушкой. Дедушку слышишь из соседней комнаты: в груди у него бушует астма. Усы совсем проржавели от махорочной копоти, а блеклые глаза все те же – умные, добрые.
Не удержался Толя, чтобы еще раз не пробежаться по дому. Дверей много. Когда переехали сюда, Толя обрадованно говорил матери:
– Ну, теперь не отлупишь: вкруговую бегать можно.
Каждая из комнат встречает Толю знакомым запахом, знакомыми вещами.
В столовой, которая одновременно служит и спальней для стариков, запах застоявшегося тепла, потертых сенников, сухого укропа, смоляков и сильнее всего – кожи (дедушка сапожничает).
В спальне две кровати и шкаф, приторно пахнет чистым бельем.
В большой комнате, которую в доме называют «залом», пахнет лаком от нового буфета. Тут зелено от фикусов.
И обивка дивана зеленая. Диван в этой обивке почти на всех фотографиях, сделанных Алексеем.
В кухне все упрятано за ширму. Бабушка и мама знают, как отец не любит, если что-нибудь лезет ему под ноги. Оставят на виду грязное ведро, корзину, веник – все это сейчас же летит в угол, как только он войдет в кухню.
– Ко мне больные ходят, а тут хлев сделали! – кричит папа, пиная ногой ведро, корзину, и обедать садится хмурый, будто ему повстречался по дороге лютый ворог.
Папа теперь лишь по воскресеньям наезжает из города (он служит на аэродроме), но корзины, ушат, ведра по-прежнему прячутся за ширму и оттуда трусливо пахнут мытой картошкой и теплым тестом.
Папа, по определению бабушки, «хозяин не в дом». Он знает лишь свою больницу. Мама, смеясь, рассказала однажды:
– Пришел за лекарством больной, к которому ты вчера ездил, и говорит: «Везу я Ивана Осиповича и показываю на поселковое стадо. Хорошая, говорю, доктор, коровка у вас, вымя по земле. А он: а какая тут наша?»
Толя остановился на пороге, будто исполняя какой-то обряд. В день отъезда он вот так же стоял на этом самом месте, стараясь запомнить себя еще не уехавшим. Тогда здесь стоял Толя, который еще не ездил к дяде, теперь тут Толя, который уже побывал там.
Не дожидаясь завтрака, Толя отправился к Миньке Барановскому.
Через полчаса друзья были в своем лесу. Солнце уже высоко, но здесь, под дубами, трава еще росит, щедро обмывает босые ноги. Дубы положили на землю большие тени. Кажется, что вышли из пахучего бора богатыри, остановились у края леса и смотрят на запад, а у ног – щиты.
Не понимая товарища, которому хочется побыть около дубов, Минька идет дальше, на горку, поросшую сосняком. У Миньки там гнезда, которые нужно показать Толе. Маленький, с большим горбатым носом, за который его прозвали Пилсудским, Минька занимается своим обычным делом: сосредоточенно выстругивает палочку. Минькой же он окрещен по милости младшего братца, умершего год назад, который так и не научился выговаривать правильно Мишка, зато других научил говорить Минь-а.
Откровенно говоря, птичьи гнезда – это не то, что могло бы по-настоящему заинтересовать старых друзей сегодня. Как в жару пить, Толе хочется почитать вслух стихи: чужие, а среди них и свои. Радостно, когда слушают и не догадываются, что стихи-то твои…
Но друзья начинали с того, чем кончили год назад. У Миньки на примете много шмелиных гнезд. Можно создать целую пасеку. Когда-то Толя занимался этим. Улейца на манер скворечен, даже маленькие «колоды» – все было сделано, как у Жигоцкого, у которого всегда можно купить меду. Шмели, перенесенные вместе с сотами в палисадник, выползали на лоток, долго делали зарядку крылышками, нежили на солнце свои черно-оранжевые бархотки, потом легко снимались и улетали.
– За взятком, – радовался Минька.
Одни улетали, другие возвращались, и все шло, как на пасеке. Но когда друзья сняли крышку, осторожно приподняли мох и взглянули на темные, крупные, как орехи, соты, они опешили: все соты, даже те, что прежде были запечатаны, оказались пустыми.
Шмели не захотели быть Толиными пчелами.
– Куда же они летали? – недоумевал Минька.
А Толе тогда подумалось, что шмели летали на свое болотце: там они жили, а к нему являлись только на обед.
С пасекой не вышло. Но к тому времени его захватило другое. Толя взялся приручать скворца и галку. Приручить – это значит подружиться, и Толя подружился со своими птицами, особенно со скворцом.
Галка была хитрая и жадная. Она вечно торчала на базаре, попрошайничала, а однажды стащила у зазевавшейся бабы красную тридцатирублевку. Разбойница примостилась на крыше и, прижав лапкой бумажку, клювом стала отрывать клочки и бросать их вниз. Баба вначале испугалась, а потом озлилась:
– Бачили вы такую нечисть? Гэта ж босо́та заводская выучила ее деньги красти.
Хлопцы визжали от. удовольствия. Толя похвастался дома талантами галки. Отец пообещал отдать ее кошке, а Толю заставил разыскать пострадавшую и вернуть ей деньги.
Скворец имел нрав тихий и мягкий. Толя и прозвал его Пушком. Это была ласковая и обидчивая птица. Галка, усевшись на плече, больно клевала в ухо, норовила в глаз: она все пробовала, нельзя ли съесть. Пушок, тот мягко терся головкой о щеку и, как в окошко, заглядывал в Толин глаз черным глазком-бусинкой. Переступая дерматиновыми лапками, волнуясь, спрашивал: «Чуешш? Чуешш?»
– Чую, слышу, – отзывался хозяин.
Но Пушок нервничал, вертел головкой и улетал, видимо, не вполне уверенный, что Толя слышит все, что слышит он, Пушок. Если надо было позвать галку, Толя подражал ее гортанному:«У-гга, у-гга». Пушок летел на свой зов: «Чшш, чшш». Галка являлась, только когда была голодна, Пушок – в любое время и лишь на зов хозяина. У Пушка была какая-то своя память на ласку. Толя верил, что скворец помнил, как Толя отнял его, гадкого, голенького, у мальчишек, как поил и кормил его из губ…
Ознакомительная версия.