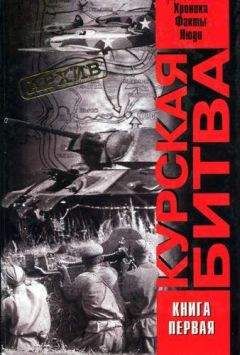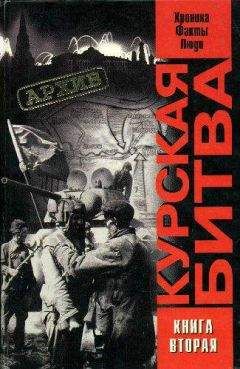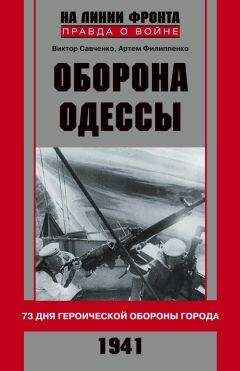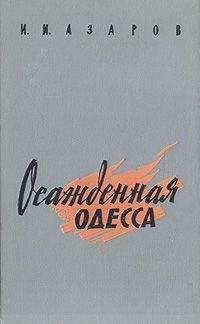— Ах, туды твою… — заорал он, отскакивая в сторону. — Ты ж чуть без глаз меня не оставил! А ну, слезай — растуды твою…
Но я благоразумно предпочел остаться наверху. «Будь что будет, — думал я, — не слезу».
Он побушевал, покричал внизу, погрозил мне кулаком и ушел, предварительно пообещав спустить с меня шкуру, если к вечеру я не закончу работу.
Когда затих его разъяренный голос, я слез и, с опаской оглядываясь, подобрал злосчастное зубило. Я решил сначала попробовать долбить внизу, стоя на полу, чтобы освоиться, а потом уж делать это на лестнице.
Я попробовал, но убедился, что у меня ничего не получается даже здесь, зубило отскакивает от кирпича, оставляя на нем беспорядочные мелкие зазубрины. «Нет, ничего у меня не выйдет», — с горечью думал я, продолжая долбать как попало. И тут я услышал, как кто-то шмыгает носом у меня за спиной. Я обернулся. Рядом стоял пухленький мальчик примерно моего возраста. На розовощеком скуластом лице крошечной кнопкой торчал курносый нос. Мальчик время от времени шмыгал им и при этом смешно и мило морщил его.
— Ты не части, не части, не нада, вот так, смотри, — протараторил он скороговоркой и показал мне, как надо бить по зубилу. Я присмотрелся. Так вот в чем была моя ошибка! Я колотил быстро, молоток отскакивал, удара не получалось. А надо — не торопясь, размеренно — сажать в одно и то же место. А потом, когда зубило врежется в кирпич, надо вытащить его, переставить и бить под углом, кирпич будет выкрашиваться кусками.
У него это здорово выходило, казалось, и усилий особых он не прилагал, а кирпич все отваливался и отваливался, словно под зубилом был сахар какой-то, а не звонкий желтый кирпич.
— Здорово у тебя получается, — позавидовал я. — Давно ты работаешь?
— Два месяца будет. Скоро два месяца. О-он, видишь, сколько нарубал!
Он махнул в сторону, и, приглядевшись, я увидел, что кирпичную кладку противоположной стены в нескольких местах пересекают ровные пазы, идущие сверху донизу.
— Это ты все пробил?
— Ага.
Я с тоской посмотрел на свою несчастную лунку в стене. Сколько же мне понадобится времени, чтобы пробить такой паз!
— Нет, — вздохнул я. — Ничего у меня, видно, не получится. Разве ж я успею до вечера.
Мальчик шмыгнул носом и быстро заговорил:
— Ты медвед не бойса. Не бойса. Он покришит, покришит и перестанит. Он миня тоже кришал: вечиром не будит — выганю. Нишего не выганю. Работать некем?! Сех пускат некем?! Иди рубай, медвед не бойса.
— Погоди, какой медведь? — я с трудом разбирал его смешную скороговорку, но слово «медведь» я слышал явственно, да еще два раза.
Он примолк, шмыгнул носом и снова затараторил, поблескивая темными глазами:
— Медвед — это Бутыгин мы так зовем, Бутыгин, — он пробежал вдоль машины косолапой походкой начальника электроцеха и, видя, что я понял, довольный вернулся обратно. — Пускай кришит на здоровье, пускай кришит себе скулька хучит. Ты только не торопис. Сначала трудна — потом привыкнешь. — Вдруг глаза его расширились, он всмотрелся в глубину пролета и прилгнул голову.
— Медвед идет, палезай наверх, — зашептал он и, ужом петляя между машинами, пригнувшись, побежал к противоположной стене.
Я вновь взобрался на лестницу, зацепился ногой и принялся «долбать», как учил меня мой новый знакомый.
Теперь кирпич поддавался лучше, но очень скоро я почувствовал, что задыхаюсь, рука налилась тяжестью, молоток, казалось, весил несколько пудов, я поднимал его, как будто выжимал тяжеленную гирю, но с упорством я вновь и вновь заносил его над головой и обрушивал на несчастное зубило, которое дрожало и прыгало в уставшей руке. Надо было отдышаться, опустить руки, постоять несколько минут спокойно, не двигаясь, но я знал, что там, внизу, наблюдает за мной Медведь, и я долбал и долбал из последних сил, чувствуя, как расплываются перед глазами разноцветные круги. Кончилось все это для меня печально. Я съездил молотком по руке, она мгновенно вспухла, и хотя я не уронил зубила, как в первый раз, но сжать его уже не мог — большой палец меня совсем не слушался — он торчал, оттопырившись в сторону, и малейшее движение им причиняло мучительную боль. У меня слезы полились из глаз, я стоял на лестнице, зацепившись одной ногой за перекладину, и плакал, но, стиснув зубы, зажав зубило тремя пальцами, продолжал бить по нему молотком с каким-то исступлением. Я вымещал всю свою злость, всю свою ненависть к немцам, к самому себе, к этому Медведю, который стоял сейчас внизу и который был тысячу раз прав: надо было остаться, надо было драться, надо было бить их, бить их — вот так, вот так, вот так, а не ехать с бабушкой куда-то в Среднюю Азию, чтобы ковыряться здесь в этой никому не нужной кирпичной стене…
И тут я почувствовал странное облегчение. Я вдруг обнаружил, что мне легче дышать и рука уже не такая тяжелая. Я почувствовал, что могу долбать еще и еще, и, стран нос дело, чем дальше, тем легче мне становилось работать., Я уловил ритм. Я стал равномерно дышать: взмах — вдох, удар — выдох. Взмах — вдох, удар — выдох. Ко мне пришло второе дыхание. Ко мне пришла свобода. Я вдруг почувствовал, что могу расслабиться — вовсе не обязательно с таким напряжением стоять на одной ноге и вовсе не нужно с такой силой сжимать в руке молоток. Когда лишь слегка придерживаешь его, рука устает гораздо меньше и удар получается сильнее. Я с упоением бью по зубилу, замечая, как с каждым ударом оно все глубже врезается в шов. Теперь я понял. Надо вбивать его в шов между кирпичами. Сначала сверху, потом снизу. Теперь несколько сильных ударов сбоку, чтобы расколоть кирпич пополам, — и он без труда вытаскивается — целая половинка. Теперь — наоборот — удар зубилом слева и справа, затем снизу — в шов, и опять вытаскивается половина. Теперь я двигаюсь уже не миллиметрами. Теперь я иду вниз целыми кирпичами.
Я с восторгом швыряю их вниз — отколотые куски, и они с грохотом падают на бетонный пол, разлетаются на острые осколки. Пусть попробует теперь подойти сюда Медведь, пусть попробует стать у лестницы и орать на меня! Он, наверно, стоит где-то в стороне, боится близко сюда подойти. И не подойдет. Я не останавливаюсь, не оглядываюсь, не даю себе передышки. Я рубаю и рубаю кирпич, я весь обсыпан желтой глинистой пылью, она у меня в волосах, на лице и даже за пазухой, она у меня скрипит на зубах, она лезет в глаза, но я иду и иду вниз, вот уже треть стены прорезана глубоким вырубленным пазом…
Да, кажется, исполнится сокровенная мечта моей бабушки — я буду электромонтером.
* * *
У бабушки была большая семья — шестеро детей, а мужа ее убили в девятьсот пятом году во время погрома.
Он был обыкновенный конторский служащий, очень мирный и, как тогда говорили, «порядочный» человек — я видел его на семейной фотографии: рядом с бабушкой — очень красивой в молодости — сидел средних лет мужчина в светлом полосатом костюме, с галстуком-бабочкой и держал на коленях маленькую девочку. Как выяснилось впоследствии, — это была моя мама. Вокруг стояли дети постарше — еще четыре девочки в аккуратных перодниках и мальчик в матросском костюме — мои будущие тети и дядя. Так вот этот самый счетовод или бухгалтер, который сидел в полосатом костюме в кругу своей семьи с таким благостно-умиротворенным лицом, заступился на улице за студента — того били черносотенцы. Про студента они тут же забыли, а изуродованный труп бухгалтера нашли на следующий день в подворотне какого-то дома, Бабушка осталась одна с шестью детьми, и уж чего только она ни придумывала, чтобы прокормить их и вырастить!
Готовила обеды и столовала студентов, стирала всей семьёй белье, покупала обрезки ситца и шила из них детские платья, даже орехи калила, и по вечерам дети продавали их стаканами у ворот дома. Она так отчаянно боролась с нуждой, с одиночеством и при этом сохраняла добросердечие к людям и неунывающий, общительный характер, что снискала уважение всех соседей в округе. Даже квартальный надзиратель и тот почтительно раскланивался с ней и называл ее не иначе, как «мадам Вишневская».
Иногда, несмотря на кучу детей, к ней приходили свататься. Она иронически присматривалась к женихам, и кончалось всегда тем, что вежливо выпроваживала их. Один из последних случаев сватовства вошел в историю семьи. Это был хромой сапожник с соседней улицы. Много лет ему носили обувь всей семьи, и одна и та же пара попадала к нему бесчисленное количество раз — туфли и ботинки переходили от старших к младшим. Он горестно качал головой, вздыхал, но героически чинил — он знал, как живется этим людям. Потом, уже где-то году в семнадцатом, когда к нему стали попадать взрослые девичьи туфли (подросли старшие дочери, стали барышнями), он пришел свататься к бабушке.
Время было трудное, с продуктами туго, особенно с сахаром, да и в доме, как обычно — все в обрез. Стали пить чай, сели за стол всей семьей, старшая дочь Лиза разливала заварку и кипяток, передавала всем по очереди.