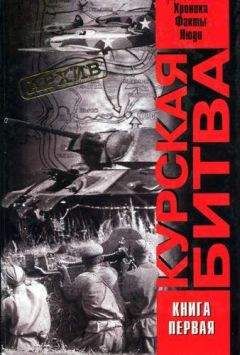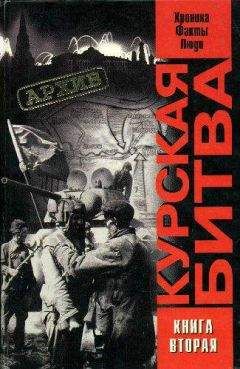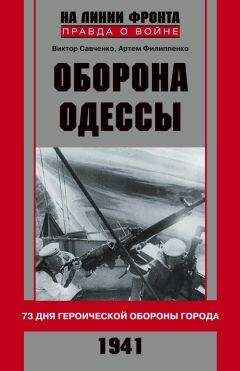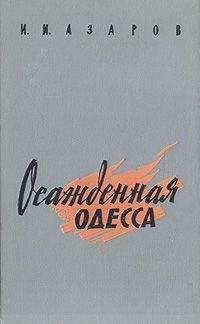На корме застрекотал пулемет, и тут же с мостика рванулся разъяренный голос капитана:
— Прекратить огонь!
Пулемет смолк. Стало опять напряженно тихо, по-моему, даже машины перешли на малые обороты — они едва-едва слышались там, под нами. А в небе все горел этот проклятый огонь, только он был уже гораздо ниже, он висел теперь где-то слева от нас, приближаясь к поверхности моря, а справа от нас теперь плыла огромная тень, отбрасываемая кораблем.
И в тот же миг родился до отвращения знакомый визг. Теперь уже не было никаких сомнений. Мы никуда не успели укрыться, только пригнулись, и взрыв, а за ним второй и третий потряс наш корабль. Погасла ракета, стало совсем темно, и тут же послышался топот сотен ног — люди бежали куда-то. Куда они бежали? Разве можно убежать с корабля? Я ничего не понимал. Чувствовал только, что палуба кренится под ногами, и крепко сжал бабушкину руку. А люди все бежали мимо нас к бортам, и, захваченные этим потоком, мы тоже кинулись по склону палубы к борту, который теперь был ниже другого. Люди карабкались на борт и лезли куда-то, цепляясь друг за друга. А там на парапете стоял, держась одной рукой за трос, человек и кричал истошным голосом:
— Наза-а-ад! Стреля-а-ать буду. Наз-а-а-д! — И размахивал пистолетом. — Старики и дети, — кричал он. — Старики и дети в шлюпку. Остальные остаются на корабле! Остальные остаются на корабле!
Но его никто не слушал, люди лезли через борт, стаскивая друг друга, хрипя, падая, вновь поднимаясь и вновь карабкаясь.
Он выстрелил два раза, и люди, словно очнувшись, замерли на мгновение.
— Ты иди, Славик, — толкнула меня к борту бабушка. — Ты иди, тебе жить надо, а я не могу, у меня сил нет лезть туда.
— Пойдем, ба, пойдем, — кричал я и тащил ее к борту.
И тут произошло нечто удивительное. Чьи-то железные руки подхватили меня, потом ее, перекинули в битком набитую шлюпку, и я увидел на мгновение мелькнувшее рядом перекошенное лицо со шрамом через всю щеку.
— Отдай концы! — заорал истошный голос, и шлюпка, скрипя талями, пошла вниз…
* * *
Когда я кончал паз, приближаясь к полу, было уже совсем темно на дворе. А здесь, в дальнем углу цеха, горели две лампы запасного освещения. И хотя лампы были большие, их свет рассеивался по всему обширному пространству цеха и создавал полусумрак, ну, вроде как в подъезде коммунального дома.
Я совсем выдохся, еле ворочал руками, но оставалось немного и бросать не хотелось.
Мой новый друг Миша Хабибулин сидел рядом, на кирпичах, и, шмыгая носом, сыпал своей скороговоркой:
— Ну, довольно, тебе говорю, довольно долбать, хватит сегодня. Медвед все равно не смотрит, завтра смотрит, пошли домой, хватит, говорю…
— Сейчас, Миша, — еле слышно бормочу я, — уже мало осталось, ты же видишь!..
— Давай меня молоток, я добивать буду, устал ты, привычки нету…
— Пусти, Миша, я сам — не надо…
Из последних сил добиваю я оставшийся кусок паза, одеревеневшими пальцами вытаскиваю острые куски кирпича у самого бетонного пола. Не разгибаясь, собираю инструмент. Вот и все. Пусть он попробует придраться. Пусть попробует. Всю стену сверху донизу пересекает ровная, глубокая канава. Ну, может, не такая уж ровная… Во всяком случае глубокая. Выбито на совесть. И провода в ней можно упрятать запросто.
Мы отбрасываем ногами щебенку на полу, расчищаем место, где пройдет паз. Зачем мы это делаем? А черт его знает. Так, чтобы выглядело все это красиво. И медленно идем в другой конец цеха. Собственно, мы пересекаем еще два таких же огромных помещения. Проходим вторую секцию. Здесь горят яркие лампы, визжат крутильные машины. У них пронзительный, истошный визг, и чем выше, тоньше они визжат, тем, значит, лучше работают. Это они скручивают тончайшие коконные нити до такой степени, что, оборвавшись, нить тут же свивается узлами. Но зато она становится очень крепкой. Из такой нити ткут материю для парашютов — каркас. Это в первой секции и в той, которую мы сейчас готовим. Миша успел мне кое-что объяснить.
Мы подходим к загородке, обтянутой сеткой, как в зоопарке, и видим странную картину. Наш Медведь стоит возле луженого бачка, установленного на двух табуретках, и очень серьезно, сосредоточенно мешает в нем поварешкой. Возле бачка выстроилась очередь. Работницы стоят с мисками в руках и завороженно смотрят, как священнодействует Бутыгин. Широко расставив ноги в с во см обвисающем комбинезоне, он помешивает поварешкой и, прежде чем извлечь ее из бачка, кидает быстрый взгляд вбок на подошедшего. В тот же миг поварешка с плеском вылетает из бачка и опрокидывается в железную миску. И все-таки можно заметить, что черпает он то с глубины, то с поверхности — одним погуще, другим — пожиже.
— Погляди, погляди, как разливает, — зашептал Миша, — ловкость рук — никакой мошенства, красивеньким погуще, стареньким — похуже…
— Чего это он — занятие нашел?
— Общественный поручение. Каждый вечер тут колдует, каждый вечер разливает, недоливает, переливает. Потом девочка домой какой-нибудь провожает. Хорошенький несколько дней наливает, потом — провожает.
— Да ну тебя! Кому он сдался — такой страшила!
— Ха! Страшила. Сыйчас мужчин нет, мужчин на вес золот. Он сыйчас, знаишь, какой девушка провожает!
Миша зацокал языком. Мы стоим в отдалении и вдыхаем аппетитные пары затирушки. От слабости кружится голова. До сих пор вроде ничего было. А тут вдруг от запаха еды, что ли, ноги делаются, как ватные. Быстро иду в загородку, сажусь на нижнюю планку верстака, голову подпираю руками.
— Ты чего? — тормошит меня Миша. — Заморился с непривычки? На вот, поешь, — он достает из кармана несколько сушеных урючин, — пососи, пососи нымного сразу полегчает.
Я кладу в рот грязный, с прилипшими нитками и крошками урюк, сосу его, и мне вправду как будто немного легче становится.
А потом с треском отлетает самодельная одностворчатая дверь с сеткой вместо стекла, и Медведь вносит луженый бачок в мастерскую. Он ставит его на верстак, и мы оба, как по команде, отворачиваемся, чтобы не видеть, как он будет сливать гущу со дна в свой котелок. Он льет ее, подправляя черпаком, и вдруг говорит:
— А ну, тащите свои тарелки!
Мы разом подставляем наши миски, и он наливает в них понемногу затирухи. Ее совсем немного — ну, может быть, треть или четверть миски. Но какая это затируха! Наверно, если взять пять порций столовской баланды, то и в них не разыщещь того, что плавает сейчас на дне наших мисок. Да ведь здесь одна сплошная мука, мучные шарики, а иногда так целые клецки попадаются!
Мы переглядываемся с Мишей и молча уплетаем затируху. А Бутыгин закрывает крышкой свой котелок, бережно пристраивает его в матерчатой сумке. Мы со смешанным чувством благодарности и неприязни поглядываем на него.
— Ну, хватит на сегодня. Пошел. А пазы чтоб завтра были готовы, не то головы поотворачиваю, ясно?
— Я-сно, — шмыгает носом Миша. — Они уже готовы, Бутыгин делает вид, что не расслышал. Он направляется к выходу, тряся своим задом, и вдруг останавливается, оборачивается ко мне.
— А ты, слышь, талоны получал?
— Какие талоны?
— На обед.
Я отрицательно мотаю головой.
— На вот тебе два талона. Можешь еще поесть, там открыто.
— Ладно.
— Ладно! — ворчит Бутыгин и бормочет что-то насчет своего чудом уцелевшего глаза. — Нагонят головастиков, бейся тут с ними…
Он отводит ногой дверь — обе руки у него заняты — и своим подпрыгивающим шагом идет по цеху. Некоторое время мы еще видим его колыхающийся зад, потом и он исчезает где-то между машинами.
У-у, Медвед, — беззлобно говорит Миша, и мы оба посмеиваемся, укладываем миски в свои матерчатые торбы. Надо идти, уже вечер, но неохота вылазить из цеха на холод, в дождь и слякоть. Тут по крайней мере тепло и сухо. Забиться бы куда-нибудь в теплый угол и уснуть… Но надо идти, бабушка, наверно, беспокоится, да и талоны пропадут — их принимают только один день.
— Пошли, Миша, в столовую, похлебаем еще затирухи.
Что ты, вот так я наелся, смотри, какой пузо, днем еще две порции навернул, — он бодро похлопывает себя по животу, а в глазах его — голодное сияние — несколько ложек бутыгинской затирухи только раздразнили нас — теперь бы поесть по-настоящему!
— Пойдем, — говорю я, — пойдем. Там у меня знакомая должна быть, может, больше даст.
— Знакомый? — оживляется Миша и взволнованно шмыгает носом. — Откуда у тебя знакомый?
— Соседка. В одной комнате нас поселили, когда приехали. За одеялом живет.
— За одеялом? Как это — за одеялом?
— Ну, так… Одиннадцать человек нас в комнате, — Одна комнат — одиннадцать человек?
— Ну, да. Больша-ая комната, контора там была какая-то. Ну вот, всех туда и поселили, четыре семьи, нет — пять. Там столб стоит посередине. От него веревки натянули, одеяла, простыни повесили. Она, эта соседка, за одеялом живет. Теперь понял?