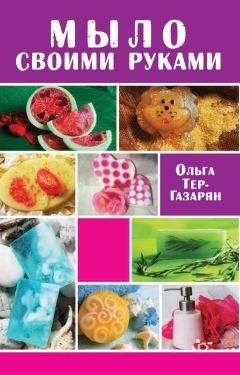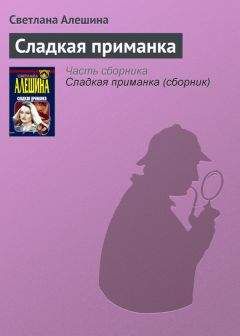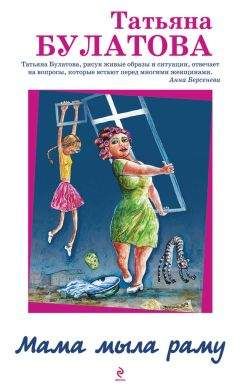а она вдруг сказала: «Это очень плохо, если будет так!..»
Тася жила с женой погибшего брата. Она училась в техникуме и получала стипендию, чему Лешка страшно завидовал. Он знал, что у нее не было родителей, и каждый день после школы прибегал к ней в комнату, и они сидели вдвоем до вечера. До тех пор, пока вернется ее тетя Маша. До тех пор, пока придут с работы его отец и мать.
Тася не была красивой. Они сидели почти молча, Лешка смотрел на нее и без конца трепался. Болтал то есть. Ему очень хотелось быть перед ней умным, и он сыпал что-то в этом роде. Ему, весьма тщедушному, очень хотелось быть сильным, и он говорил что-то на этот счет. Она ему очень нравилась. Первого июня сорок первого года, когда они так сидели, Лешка поцеловал ее. Не в губы, не в щеку, а в плечо — в родинку на плече.
Она не удивилась, не дала ему по физиономии, чего он ждал, а только сказала:
— Зачем? Ведь я скоро выйду замуж…
Он не поверил ее словам.
— Да, за Колю Самохина, из дома напротив. Ты же его знаешь…
Он ничего не знал. Он просто убежал из ее комнаты и много дней бегал от нее. Потом успокоился. В конце концов не одна Тася на свете! И не одну ее он любил!
Двадцать второго июня она сама пришла к ним. Спросила:
— Ты почему не заходишь?
Он зашел.
— Слушай! — сказала она. — Молотов!
Радио передавало:
«Граждане и гражданки Советского Союза!
Советское правительство и его глава товарищ Сталин поручили мне сделать следующее заявление:
Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города — Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие, причем убито и ранено более…»
Тася молчала.
Лешка не знал, что сказать.
Тасиной тети Маши не было дома. Лешкины родители были дома.
Он побежал к ним:
— Слышали?
— Слышали… И сиди, пожалуйста, дома! — раздраженно сказала мать.
Он сидел, слушал опять и опять радио.
Вновь постучалась Тася:
— Я очень волнуюсь, что нет тети Маши…
— Посиди, Тасенька, с нами, — сказала мать. — Вместе как-то легче…
3
В лесу сумеречно, с утра сумеречно, словно дело идет к вечеру. Висит над лесом осенняя хмарь, туман висит. И все же те, кто считают, что по осенней поре краски тускнеют, неправы.
Летом зелень не так чувствуешь, как глубокой осенью. И сейчас в лесу ее, зелени, кажется больше, чем летом. По-молодому свежая трава и мхи, крапива, не пожелтевшая, а лишь чуть почерневшая с краев листа, немного пожухлая, но зеленая, и раскидистые — справа и слева, спереди и сзади, вверху и внизу — ели и сосны. И умирающие к осени деревья и кусты не все сбросили листву. На одних она еще есть — сухая, шелестящая, на других— зеленая, как летом, только немного поникшая, опустившаяся вниз, к земле. И лопухи, и брусника, и заросли малинника — все еще зелено в эту пору. А тут рядом сорняки какие-то — они тоже зелены. И пруд, бывшая лужа, тоже зелен. Пруд цветет, и зелень прибивает к берегам. На пруду при малейшем ветерке — зыбь, как на море, но зеленые краски от этого не исчезают, и даже желтые листья, плавающие в воде, не меняют их, а скорей оттеняют.
— Хорошо! — произнес Коля.
Он сейчас сосед по траншее.
— Когда фрицы молчат, всегда хорошо, — согласился Алексей.
Он уже три месяца не Лешка, а Алексей. Точнее, даже не Алексей, а просто по-фамилии: Дементьев.
И у них, верно, только второй относительно тихий день. Они с Колей уже три месяца на фронте. Живы. Вырывались из-под Смоленска — вырвались. Сдавали и вновь брали Ельню — сохранились. Опять отступали и вот теперь сидят на берегу узкой, только начинающейся в этих краях Москвы-реки, совсем близко от дома, сидят в траншее на опушке леса, смотрят на противоположный, спокойный сейчас, берег, прижав винтовки к брустверу. Кажется, уже сто лет прошло, как началась война, и странно, что они с Колей Самохиным живы, даже ни разу не ранены.
Они пошли с ним в военкомат двадцать второго июня вместе… Вместе приходили двадцать третьего. И двадцать четвертого, уж раз так случилось, что вместе. Третьего июля, когда по радио выступал Сталин, их наконец взяли. И попали они в одну часть. В один взвод. Не на фронт, а на Таганку, в некогда обычную фабрику-кухню. И только уже в августе — пекло на Десне, потом под Дорогобужем и под Ельней, Спас-Деменском и Ново-Дугином.
До войны он почти не знал Колю. Встречал во дворе, видел, и все. Потом поразило: Тася выходит замуж за Колю. Стал присматриваться. Парень как парень. Красивее, конечно, его. Но как и что было у них с Тасей? И почему он ничего не видел?
Теперь он знал Колю, как самого себя. Коля был не трус. Даже отчаян. За три месяца сорок первого можно многое увидеть в человеке…
И лишь об одном Алексей не знал. И не спрашивал Колю ни разу. Не знал, почему он сам ничего не говорит о Тасе. И писем от нее нет. И сам ей не пишет. Письма получали и писали всегда вместе, и Алексей знал бы…
Тихо-тихо сейчас здесь. Немецкий берег в дыму. Все горит, и все разрушено. Перестрелки и взрывов почти не слышно. Тихо.
— А знаешь, пословица есть такая старая, — сказал Коля. — Не помню, от кого слышал, но вспоминал много раз, и сейчас вспомнил: «Бог создал землю и небо, а черт — Ельню и Дорогобуж создал».
Алексей промолчал.
— Ты что молчишь? — спросил Коля.
— Просто смотрю…
Он смотрел на тот берег. Среди дымов и тумана пробивался зеленый цвет. Видно, люди сеяли озимые, даже не подозревая, что немец придет сюда.
Озимые уже поднялись, зазеленели, наперекор осенним краскам и войне. На фоне светло-зеленого поля ближний лес стал как бы двухэтажным. На первом этаже — серо-белый цвет. Это березы с опавшей листвой, и клены, и осины, и ольха, и кусты орешника, и черемуха. Второй этаж, а может, даже второй и третий — не поддающиеся времени года сосны и ели, густо-зеленые, темные рядом с полем, темные над голыми деревьями, сбрасывающими по осени листву. Второй этаж за полем с озимыми красив и величествен, юн и могуч…
— Коль, а Коль! — вдруг сказал Алексей.
— Что?
— В лесу здорово, правда? И вообще здорово красиво, если б не война. А-а?
— Красиво, — согласился Коля. Потом почему-то добавил — А я о ней, о войне, между прочим, никогда не мечтал…
— А я, ты знаешь, мечтал. Думал: вот — настоящее… В общем… Я не о том сейчас… Вот на поля те смотрю, на лес. Странно, что так красиво все, а тут — война… И немец до самой Москвы допер!
— В лесу лучше лежать, чем в поле. Ясно, лучше! — довольно произнес сосед справа.
В лесу суше, чем на проезжих дорогах и прохожих тропках. На дорогах и тропках грязь несусветная. Машины идут, танки, артиллерия, обозы. Месят грязь, обдают грязью… Люди идут, скользят в разные стороны, чертыхаются — тоже месят грязь.
Тут, в лесу, совсем не так. Больше листвы под ногами, больше травы и мхов, больше корней и хвои. Мхи мягкими островками тянутся вдоль корней деревьев, желто-серые иголки елей и сосен устилают землю. Деревья прикрывают землю от дождя, и влаги меньше.
Лес, битый бомбами и снарядами, изрешеченный пулями и осколками, вроде бы и замер. Замер в ожидании чего-то важного, существенного. Может, зимы? Или нового немецкого прорыва? Или он, лес, просто думает? О судьбе своей, о жизни и о людях?
На противоположном берегу раздался какой-то треск, потом шум и хрип, и тут мощный громкоговоритель откашлялся и произнес:
— Русские! Слушайте! Сейчас к вам обратится генерал Блюментрит…
Опять хрип, опять, треск и шум, и вот уже немецкая речь в репродукторе. Ее перебивает прежний русский голос:
— Господин генерал говорит: по поручению германского командования я обращаюсь к вам, русские солдаты и офицеры, с предложением прекратить сопротивление. Мы высоко ценим ваше мужество и стойкость. Но сейчас, когда доблестные германские войска вплотную подошли к Москве, ваша стойкость бессмысленна.
Наш берег, наш лес тоже загремел радиоустановкой:
— Бойцы и командиры! Друзья! Передаем обращение Военного Совета Западного фронта:
«Товарищи! В час грозной опасности для нашего государства жизнь каждого воина принадлежит Отчизне. Родина требует от каждого из нас величайшего напряжения сил, мужества, геройства и стойкости. Родина зовет нас стать нерушимой стеной и преградить путь фашистским ордам к родной и любимой Москве…»
— Вот тебе и перестрелка, — сказал Коля. — Наши и здесь немцев забили!
И вновь все замолкло. И за рекой, и тут — в лесу.
Звуки осеннего леса редки и потому особенно слышны сейчас, когда все стихло вокруг. Стук дятла слышен. Голос еще какой-то пичуги — одинокий и тоскливый — слышен. Может, это ореховка или синица? А может, щур или клест? И — писк комара. И — еле слышный вздох лягушки в луже. И — тихое, только по ветру, шуршание умершей листвы на дубах.