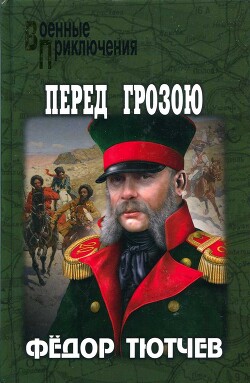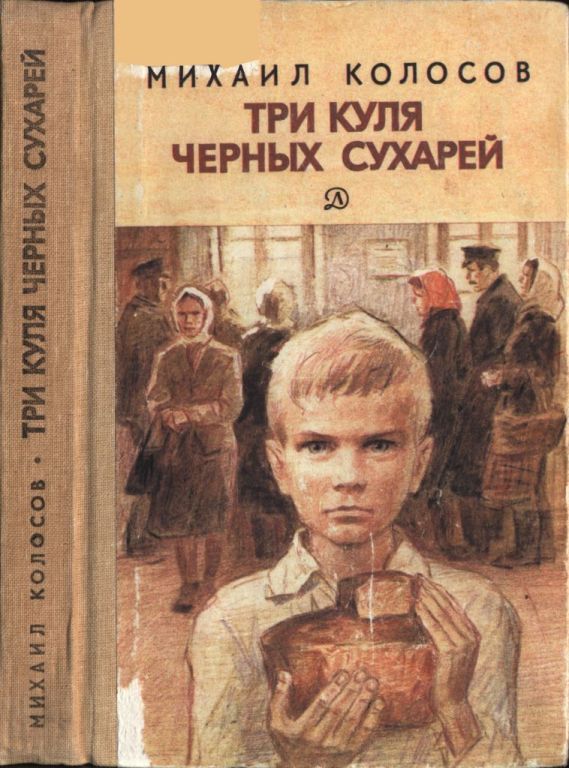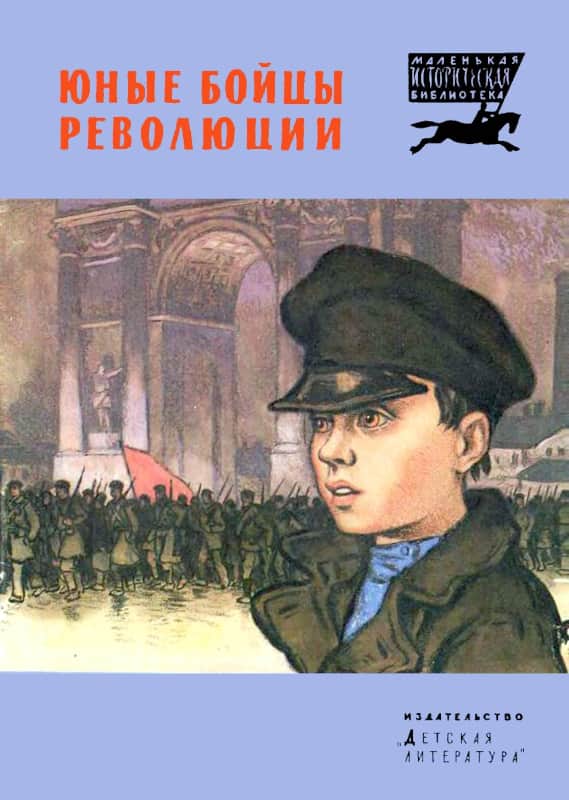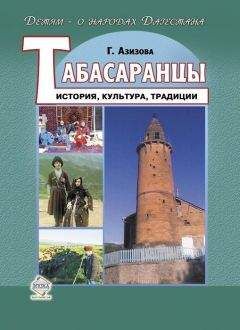— Ну, я вижу, с вами сегодня пива не сваришь. Если уже вам так необходимо и так хочется лежать тут одному — лежите, Бог с вами, а я пойду, действительно поздно. До свиданья. Возвращаясь с бала, я на обратном пути забегу к вам сообщить о том эффекте, который возбудит ваше отсутствие. Хотите?
— Я, наверно, буду в то время спать. Впрочем, заходите, порасскажете мне о вашем бале. Этот бал ведь исключительный, к нему готовились чуть ли не за полгода и набрали гостей со всех волостей. Еще бы, сегодня мадемуазель Панкратьевой минуло восемнадцать лет, и из девочки она превращается в заправскую барышню-невесту, женихов здесь непочатый угол, хоть пруд пруди.
— Анна Павловна о женихах не думает, — с едва уловимой досадой в голосе отвечал Колосов.
— Она, пожалуй. Впрочем, и то Бог весть. По моему мнению, на свете нет ни одной барышни, которая не думала бы о женихах; но уже ее папахен наверно только о том и мечтает, чтобы своей дочке-баловнице подцепить женишка получше. Для этой-то цели главным образом и бал сегодняшний затеял, а вы, вместо того чтобы быть там, на поле сражения, теряете драгоценное время в болтовне с таким малоинтересным собеседником, как я.
— Смейтесь, смейтесь. Небось про других любите покумить, а когда про вас — сердитесь.
— Между мной и "другими" большая разница, я про женитьбу не думаю, ну а "другие"-то, кажется, наоборот, хоть сейчас под венец, а? Как скажете?
Спиридов многозначительно усмехнулся, напирая на слово "другие". Колосов слегка покраснел.
— Ну что ж, — заговорил он несколько торопливо, — я и отпираться не буду. Конечно, если бы Анна Павловна согласилась, я почел бы себя самым счастливым человеком на земле, но, увы, она обо мне думать не хочет. Я это ясно вижу.
В тоне, которым были сказаны последние слова, Спиридову послышалась искренняя печаль. Ему стало жалко своего друга, и он, чтобы ободрить его, укоризненно воскликнул:
— Ну, это совсем уже стыдно, надо больше куражу. Помните, что девичьи сердца, как и крепости, берутся только с боя.
Колосов ничего не ответил на последние слова своего друга, молча взял со стула свою фуражку, нахлобучил ее на самые глаза и неторопливо вышел из комнаты.
— Прощайте, приятных сновидений! — крикнул он с порога комнаты, не оборачиваясь и плотно притворяя за собою дверь.
На крыльце его поджидал солдат в накинутой на плечи враспашку шинели и с зажженным фонарем в руке.
— Ну что же, Потап, пойдем, брат, — сказал Колосов, ласково обращаясь к солдату. — Ступай вперед, свети хорошенько, да смотри, в лужу или канаву не заведи.
— А их благородие нешто не пойдут с нами? — спросил Потап, и в его голосе Колосову послышалось как бы изумление.
"Вот, солдат, и тот удивляется, — подумал он, — а уж там что будет, расспросами покоя весь вечер не дадут".
При мысли об этом Колосову сделалось вдруг страшно досадно, он чуть было не сорвал своей досады на солдате, но, вовремя опомнившись, удержался от проснувшегося на языке сердитого окрика.
— Петр Андреевич не совсем здоров, он остался дома, лежит, — спокойным тоном сказал Иван Макарович и торопливо двинулся вперед, предшествуемый быстро шагающим солдатом. Бросаемый фонарем свет скупо озарял небольшое пространство, шириной 2–3 шага, не больше, но через то окружающая темнота делалась еще непроницаемей. Где-то вдали, словно забытые дети, уныло плакали чакалки [1], да чей-то голодный пес как-то особенно жалобно подвывал, оплакивая свою голодную долю.
II
Оставшись один, Спиридов несколько минут лежал, закинув руки за голову и устремив глаза на потолок. Его красивое лицо с большими черными глазами, тонким породистым носом и немного бледными, красиво очерченными губами было задумчиво и как бы печально. Он был высокого роста, хорошо и крепко сложен, с высокой грудью и широк в плечах, во всей его фигуре, сильной и ловкой, чувствовалась большая выдержка и выносливость. Особенно это было заметно, когда он встал и, всунув ноги в мягкие, вышитые туфли, принялся медленно расхаживать упругим, легким шагом по комнате. Время от времени он останавливался и задумчивым взглядом окидывал стены комнаты, как бы ища ответа на занимавший его вопрос.
Комната была под стать хозяину. Большая, в четыре окна, она мало походила на обыкновенное жилище армейского офицера. Все в ней было чисто, аккуратно прибрано, нигде ничего не валялось зря, и каждая вещь была на своем месте.
Стены, обтянутые персидскими коврами, были завешаны оружием. Тут были кинжалы в богатых серебряных и простых кожаных ножнах, с роговыми украшениями, старинные кривые, как полумесяц, клинки турецких и персидских сабель, чеченские шашки в богато отделанных серебром с золотом насечкой ножнах, серпообразные ятаганы, длинные ружья с широким раструбом, пистолеты разных форм и величин, наконец, гибкое копье и панцирная кольчуга из мелких чешуйчатых колец, так искусно спаянных между собою, что вся она казалась сотканной из какой-то особенной, фантастической, стальной материи.
На полу были разостланы толстые куртинские паласы, а в углу, среди прочей мебели, подымалась изящная этажерка красного дерева с инкрустацией, вся заваленная книгами и разными дорогими безделушками. Среди них первое место занимал портрет, написанный акварелью, в широкой перламутровой, украшенной золотом рамке.
Бродя по комнате, Спиридов несколько раз останавливался против портрета и упорно и внимательно принимался глядеть на него, как бы чего-то допытываясь. Портрет изображал молодую женщину поразительной красоты. Она была написана сидящей на стуле, до колен, в бальном, весьма открытом белом платье, с головою, слегка повернутой к зрителям, с задумчиво-мечтательным выражением в прекрасных голубых, широко открытых глазах. Золотистопепельные локоны пышным каскадом ниспадали на обнаженные, словно из мрамора выточенные плечи, красиво оттеняя белизну пышной груди, туго стянутой высоким корсетом; на красиво очерченных, чуть-чуть припухших, ярких, как алый розан, губах бродила задумчивая и в то же время как бы насмешливая, даже дерзкая улыбка, придававшая всему лицу, с немного вздернутым носом, какое-то особенное, неуловимое выражение.
Классические линии обнаженных до плеч белоснежных рук еще более усиливали впечатление красоты и придавали красавице сходство с древнегреческой богиней.
Чем дольше глядел Петр Андреевич на портрет красавицы, тем сильней овладевало им волнение, охватившее его с той самой минуты, как часа два тому назад вестовой казак принес ему полученное с пришедшей в штаб-квартиру полка оказией письмо в толстом, атласной бумаги, пакете. Письмо это упало на Спиридова как удар грома из безоблачного неба. В первую минуту он не верил своим глазам и несколько раз читал и перечитывал одни и те же фразы, которые прыгали перед ним, не отпечатлеваясь ясно в его мозгу, но в то же время зажигая кровь и заставляя усиленно биться сердце. Когда же, наконец, прочитав в третий раз все письмо от начала до конца, Спиридов понял и уловил его тайный смысл, им овладела безумная радость.
Всегда холодный, сдержанный, немного насмешливый, Петр Андреевич на этот раз изменил своему обычному спокойствию; он едва мог сдерживать своё волнение и весь горел от охватившего его счастья и торжества. Главным образом торжества, торжества победы, о которой он давно уже перестал мечтать.
Он не стал долго раздумывать и быстро принял решение. Завтра же он подает прошение об отпуске и, не дожидаясь ответа, уедет под предлогом командировки в главную квартиру. Панкратьев это сделает, он добрый старик, несмотря даже на то, что Спиридов его обидел, не явившись сегодня на бал, но это было выше сил его. Он боялся за себя, боялся, что он наделает там каких-нибудь глупостей, от избытка чувств начнет школьничать, как юнкер, такие порывы у него бывают, а кроме того, ему тяжело теперь было бы встретиться с Зиной Балкашиной. При воспоминании о Зине что-то похожее на угрызение совести шевельнулось в душе Спиридова. Он особенно внимательно начинает припоминать свое поведение по отношению к Зине, и хотя он не может ни в чем упрекнуть себя, но тем не менее внутренний голос шепчет ему, что следовало бы быть еще поосторожнее.