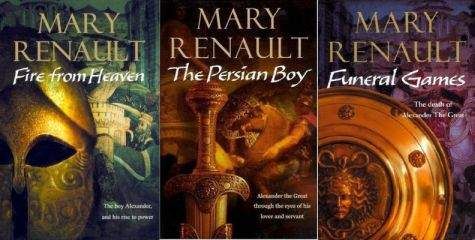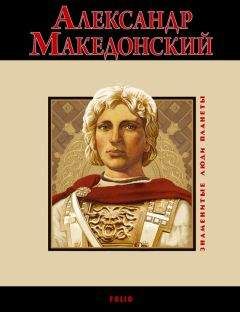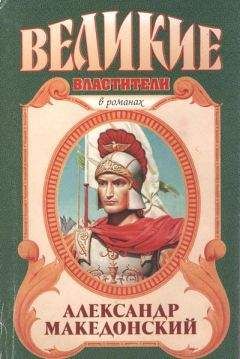При том что власть его неуклонно подступала к древней хлебной дороге Геллеспонта, кормившей всю Грецию; при том, что он окружал колонии Афин, склонял к измене их вассальные племена и брал в осаду города их союзников, — одной из самых горьких своих обид южане считали то, что он нарушил честный, достойный древний обычай прекращать войну зимой, когда даже медведи залегают в берлогах.
Сейчас он сидел у огромного стола. В загорелой руке — потрескавшейся на морозе, покрытой шрамами, мозолистой от поводьев и копья — был зажат серебряный стилос; он ковырял им в зубах. Рядом, на табурете, сидел писец и держал на коленях табличку; ему предстояло записывать послание вассальному князю в Фессалии.
Домой царя привели южные дела; и он уже знал, как за них приниматься. Наконец-то можно начинать. В Дельфах нечестивые фокийцы, измученные войной и сознанием вины своей, набросились друг на друга, словно бешеные псы. Они хорошо попользовались деньгами, которые чеканили, переплавляя храмовые сокровища, чтобы платить солдатам. А теперь далекоразящий Аполлон добрался-таки до них. Ждать он умел; но в тот день, когда они полезли за золотом под самый Треножник, — он послал им землетрясение, а потом — панику, яростные взаимные обвинения, высылки, пытки… Проигравший вождь с остатками своих сил удерживал теперь только опорные пункты у Фермопил. Он уже сейчас в отчаянном положении, скоро с ним можно будет управиться. Афинские подкрепления гарнизону своему он отослал назад, хотя это были союзники: боялся, что его выдадут победившей партии. Скоро он окончательно дозреет. Царь Леонид там наверно корчится под своим могильным курганом, — думал Филипп.
«Путник, проходящий мимо, ты пойди скажи спартанцам…»
Ты пойди скажи им всем, что через десять лет вся Греция будет подвластна мне, потому что ни города друг с другом договориться не могут, ни люди; никто не верит никому. Они забыли даже то, чему учил их ты, Леонид: как надо сражаться и умирать. Мне их и побеждать не придётся; они уже побеждены завистью и жадностью. Они пойдут за мной — и будут гордиться этим; под моим владычеством они вернут себе гордость. Они будут рассчитывать на меня, чтобы вёл их; а их сыновья — на моего сына…
Эта мысль напомнила ему, что он посылал за мальчиком уже довольно давно. Он конечно придёт, когда его отыщут; нельзя ждать от девятилетнего мальчишки, чтобы тот постоянно сидел у себя. Филипп снова вернулся мыслями к письму.
Он ещё не успел закончить с письмом, когда услышал из-за дверей голос сына: тот здоровался с его телохранителем. Сколько десятков — или сотен — людей знает мальчик по имени? Этот-то в гвардии всего пять дней!..
Открылись высокие двери. Меж ними он казался совсем маленьким. Яркий, ладный; босые ноги на холодном мраморном полу; руки привычно сложены под плащом — но не для того, чтобы их согреть, а в хорошо заученной позе скромного спартанского мальчика, которой научил его Леонид… В этой комнате, рядом с бледными книжниками, отец и сын смотрелись — будто дикие звери среди ручных. Смуглый солдат, выдубленный почти до черноты, — на руках шрамы, на лбу светлая полоса, оставленная кромкой шлема, слепой глаз смотрит молочно-белым пятном из-под полуприкрытого века, — и мальчик у двери: на загорелой шелковистой коже ссадины и царапины мальчишьих приключений, а рядом с его взъерошенной густой шевелюрой позолота Архелая кажется тусклой и запыленной. Домотканая одежда его, когда-то мешавшая, давно уже выцвела и стала мягкой от многочисленных стирок, покорилась хозяину; и теперь смотрелась совсем естественно, как будто он сам её выбрал, с нарочитой надменностью. А серые глаза, освещённые холодным заходящим солнцем, скрывали какую-то тайную мысль.
— Войди, Александр.
Он и так уже входил; Филипп сказал это только для того, чтобы быть услышанным, негодуя на отчуждённость во взгляде. Но Александр подумал, что ему позволили войти, будто слуге. Румянец от ветра на улице схлынул с его лица; кожа казалось посерела, потемнела… Только что, возле двери, он успел подумать, что Павсаний, новый телохранитель, красив той красотой, на которую так падок его отец. Если из этого что-нибудь последует, то какое-то время новой девушки не будет. Бывает такой взгляд — когда тебе смотрят в глаза или наоборот, не смотрят, — что сразу узнаёшь, это уже случилось, или ещё нет. Тут ещё нет.
Он подошёл к столу и остановился, руки по-прежнему под плащом. Но один элемент спартанских манер Леонид так и не смог в него вколотить: он не должен был поднимать глаз, пока старший к нему не обратится.
Филипп, встретив его неподвижный, пристальный взгляд, почувствовал укол знакомой боли. Даже ненависть была бы лучше. Он видел такие глаза у людей, которые скорее умрут, чем сдадут город или перевал. И это не вызов противнику, это внутри, в душе. За что мне такое? — подумал он. Всё ведьма виновата. Это она приходит со своей отравой и крадёт у меня сына, стоит лишь мне отвернуться.
Александр собирался спросить отца о боевых порядках фракийцев. Рассказывали по-разному, а он хотел знать… Однако, как видно, сейчас не получится.
Филипп отослал писца и подозвал мальчика на табурет, покрытый красной овчиной. Сын сел слишком уж прямо, и Филипп тотчас почувствовал, что он уже раздумывает, как бы уйти.
Врагам Филиппа нравилось думать, что все его люди в греческих городах попросту подкуплены. Любовь слепа, но ненависть ослепляет еще хуже. Те, кто ему служил, на самом деле приобретали много; но было среди них немало таких, кто вообще ничего не взял бы, не будь они покорены его обаянием.
— Глянь-ка, — сказал он, доставая блестящий узел выделанной кожи. — Угадай, что это такое.
Мальчик стал распутывать; его длинные пальцы тотчас принялись за работу, продевая ремни вверх и вниз, вытягивая, выпрямляя… По мере того как из хаоса возникал порядок, угрюмость на его лице сменилась сосредоточенностью, а потом серьезной взрослой радостью.
— Праща и сумка для камней. На пояс цепляется, через вот эти прорези. Где делают такое?
На сумке были нашиты рельефные золотые пластинки, вырезанные в форме стилизованных, округлых быков.
— Её нашли на убитом фракийском вожде, — сказал Филипп. — Но она с дальнего севера, из травяных равнин. Это скифская.
Александр внимательно разглядывал этот трофей с окраины Киммерийской пустыни, размышляя о бескрайних степях за Истром, о сказочных погребениях тамошних царей, окружённых кольцом мёртвых всадников, которых привязывают к столбам, так что кони и люди засыхают в сухом холодном воздухе. Ненасытная любознательность оказалась слишком сильна — он оттаял, и в конце концов задал все свои вопросы. Разговор получился довольно долгий.
— Ну, давай, — сказал отец, ответив на всё. — Испытай свою пращу, я ведь её для тебя привёз. Посмотрим, что ты сумеешь сбить… Только не уходи слишком далеко, скоро афинские послы приедут.
Праща лежала у мальчика на коленях, но он забыл о ней, только руки помнили.
— Про мир говорить?
— Да. Они высадились в Галесе и попросили, чтобы их пропустили через границу, не дожидаясь глашатая. Похоже, что торопятся.
— Дороги там плохие.
— Да, им надо будет отогреться, прежде чем я стану с ними говорить. Когда буду их принимать, ты можешь прийти послушать. Встреча будет серьёзная; пора тебе посмотреть, как дела делаются.
— Я буду возле Пеллы. И обязательно приду.
— Наконец-то они кончили болтать, и взялись хоть что-то сделать. А то всё гудели, как разбитый улей, с тех самых пор, как я Олинф взял. Последние полгода обхаживали южные города, лигу против нас собрать пытались… Ничего у них не вышло из этого, только пятки оттоптали.
— Неужто все боятся?
— Не все. Боятся не все. Но — ни один не верит другому, ни один!.. А некоторые верят тем людям, которые верят мне. И я им за эту веру воздам.
Тонкие золотистые брови мальчика сошлись почти в сплошную линию, подчеркнув тяжёлые надбровья над глубоко сидящими глазами.
— Неужто даже спартанцы не станут сражаться?
— Под командой афинян, что ли? Возглавить борьбу они больше не могут, сыты по горло, а следовать за кем-нибудь — на это они никогда не пойдут. — Он улыбнулся про себя. — К тому же, они совсем неподходящая аудитория для оратора, который со слезами бьёт себя в грудь или брюзжит, будто баба базарная, которой обол недодали.
— Когда Аристодем приезжал в прошлый раз договариваться о выкупе за Ятрокла — он мне сказал, он думает, что афиняне проголосуют за мир.
Такие сведения давно уже перестали удивлять Филиппа.
— Ну да, — согласился, он. — И чтобы поощрить их на это, я отпустил Ятрокла безо всякого выкупа; да так, что он оказался дома раньше самого Аристодема. Ладно, пусть шлют мне послов. Если думают, что смогут вовлечь в свой союз Фокиду — или даже Фракию — они попросту дураки. Но тем лучше. Пусть они там голосуют, а я буду действовать. Никогда не мешай своим врагам попусту тратить время… Одним из послов будет тот самый Ятрокл, и Аристодем тоже с ним. Это нам не повредит.