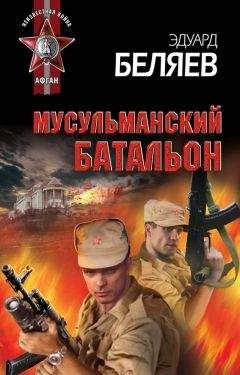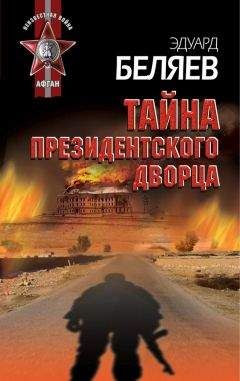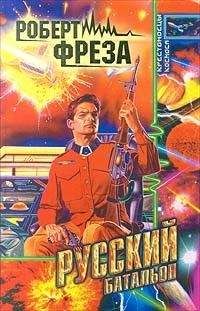— К стрельбе готов.
В ответ услышал шепотом неуставное:
— Лежи.
Абдуазиз ничего не имел против, но, не зная, сколь долго придется выполнять команду взводного, подтянул к себе и подстелил ту самую рогожу — вроде как утеплился.
— Каримов, лежи, я сказал!
Напрасно лейтенант нервничает и некстати шикает. Понятное дело, волнуется, и мы — тоже. Но хотелось еще и рукавицу прибрать — пальцы деревенеют, вбирая и ветер морозный, и холод заиндевелого спуска клавиши.
Ожила радиостанция.
— Первый, давно готов… Да… Понял… Есть… — Лейтенант Александр Камбаров (по батюшке Магрупович) отработал в эфир, а своим скомандовал: — Заряжай, приготовиться…
АГСы, как один, клацнули взведенными затворами, и взводный, должно быть, от смятения, откричал фальцетом:
— Огонь!
И снова не по-уставному:
— Давай, ребятки, крои!
Тум-клац… Тум-клац… Тум-клац… Перепев не музыкальный, но долбежный. Грохот, со знакомыми звуками и запахами полигона, но не полигонный — это уже были звуки настоящего боя, — пошел раскатисто по долам, уперся в горы, вернулся эхом и отразился в трех зеленых ракетах. И прибавилось шума — непривычного пока еще гула войны. Прокололи ночь, не шибко торопясь — триста пятьдесят выстрелов в минуту — и отсекая экипажи от танков в афганском батальоне, укладывая на землю охваченных страхом солдат из охранных подразделений и караульного помещения и загоняя других настильным огнем в казармы. Утихло все быстро и неожиданно, как и началось.
Дали команду — отбой. Тут же передумали и развернули АГСы носами в сторону Тадж-Бека. И по приказу — долбанули, долго усердствуя в знакомом им деле и ощущая внезапную тревогу. Когда командиры снова передумали и прокричали — отбой, тревога враз схлынула. В том отдаленном доме, светившемся изобильным разноцветьем зажженных бенгальских огней, творилась несусветная каша, и в той мешанине разобраться — кто свой, кто чужой — было просто невозможно. Они своих не узнавали, находясь рядом; что уж говорить о ведении огня навесной траекторией и с расстояния более километра. Потому и правильно поступили командиры, но с опозданием — бед все же натворили, шибанув по атакующим. Сокрушались потом, с малоутешительной оговоркой — могло быть хуже, не прекрати огонь… Да куда уж хуже…
Приданному взводу противотанковых управляемых ракет «Фагот» делать было нечего: «Шилки» и АГС-17 поставили личный состав афганцев на свое место и к грозной технике их не подпустили — ни один танк из парка «с недобрыми намерениями» не вышел, ни одна зенитка не вдарила, ни одна боевая машина не выкатила на оперативный простор, ощеряясь огнем в нашу сторону. Всех их, и командиров и солдат, «образумили» группы спецназа и десантники. А нахал капитан Сахатов настолько распоясался, что безбоязненно совершил «хищение государственного имущества в особо крупных размерах» — увел афганские танки. (Вот их-то, эти уведенные танки, и можно отнести в разряд «беспорочных» трофеев, за которые не судят. Ни в прямом, ни в переносном смысле.)
Я это к тому говорю, что миф о том, как десятка три суперменов из КГБ прорезали, словно нож масло, две тысячи отборных вояк-афганцев, устелив трупами подходы к дворцу, его коридоры, залы, лестничные пролеты и вообще все мыслимые и немыслимые просторы, на самом деле сплошной блеф. Пожалуйста, имейте в виду: я не о «долевом участии», я — о цене того нападения. Никого не хочу принизить, уронить достоинство, взять под сомнение смелость и храбрость бойцов, умалить заслуги и надругаться над памятью погибших. Договорились же — я скажу правду, и только правду, сколь бы горька она ни была и как бы меня ни поносили. И в этом я себе тоже отдаю отчет. Как и в том, что ни один из нас не может претендовать на то, что только он знает истинную правду об афганской войне.
Легкий бой — лукав и лжив…
4Вечером на бульваре. Розовый серп молодого месяца, пробивающийся сквозь пелену лепесткового облака ветвей, в тонком закатном небе за древним Ужгородским замком-дворцом. Бледное, нежное, чуть зеленоватое небо. Все это, и еще в придачу — очарование: вид усыпанной розовым соцветьем распустившихся необычайных деревьев земли; милая девочка на скамейке, углубившаяся в какую-то книжку; юная мама, проплывшая мимо с коляской, откровения Прауты — все это болезненно умиляло.
В мае в Закарпатье цветет сакура. Народ съезжается подивиться этому диву дивному. Случайность, что оказался в гостях у ребят, которые служили в 128-й гвардейской мотострелковой дивизии, расквартированной в Мукачево. В девяносто втором она входила уже в состав армии Украины. По традиции наведался в дивизионную газету, которую редактировал некогда Эдик Морман — мы оба оканчивали военный факультет журналистики. Слово за слово, и вышел я на Василия Прауту. Встретились мы с ним в Ужгороде и поговорили, расположившись на подворье старинного замка, под весенним кипеньем, в купели цветов и благоухания.
— Запах-то какой у сакуры!
— Обалденный.
— Василий, как-то уж по-новомодному и невкусно звучит.
— Тогда — неземной. Здесь недалеко, под Хустом, есть долина нарциссов. Очень красиво. Я когда впервые увидел ее, знаете, что вспомнил? Кушку и пустыню в алых тюльпанах. Помните?
Нельзя не помнить — есть такое место на Земле. Сам не увидишь — не поверишь. Красный ковер карминовых цветов на фоне желтых песков, размером два километра на десять-одиннадцать. Летчики «Аннушки» пренепременно делали над ними круг перед посадкой на полевой аэродром в Кушке. Наверное, больше себя радуя, нежели доставляя удовольствие пассажирам.
Вот так от закарпатской весны, утопавшей в сакуре, мы погрузились в воспоминания лейтенантской молодости Прауты в Кушке, где я с ним когда-то и познакомился, и, неторопливо ведя беседу, дошли до зимнего штурма в Кабуле. Передам главное из того, что отложилось в памяти.
«Меня когда еще к ордену Ленина представляли, я им прямо сказал: „Вы подумайте, ведь на моей совести — так мне что-то кажется — и бойцы погибшие и пораненные, и боевая машина, „Шилками“ сожженная, и БТР спаленный“. На меня зашикали — дескать, Василий, забудь это и не выдумывай, все — бой закончен. Ты, как никто другой, способствовал успеху операции — тебе и лавры. Не порти общую картину. В общем, конец войне: снимай шинель — иди домой.
Я-то понимал, свои ошибки прикрывают разработчики той авантюры — иначе и не назовешь. Мои откровения и „поза“, как они считали, им как ножом по сердцу. Знали, никто докапываться не станет, грешки свои они спишут на бой, а других „говорунов“ заставят молчать. Кого как. Меня, выходит, орденом Ленина сделали „немым“.
А беда вот в чем состояла. Мы отрабатывали упражнения в основном по самолетам — это наша главная задача: прикрывать войска с воздуха. На полигоне в Бердянске — стрельба над морем. В Капустином Яру — такая же гладь, но над степью. Единственный раз мы выполняли упражнения по наземным целям в Туркмении, под Мары. Руководил, вы знаете, подполковник Линовицкий Владимир Николаевич. Долбали мы макеты домов день и ночь. Ну, и что с того? Мы же били предполагаемого противника на местности ровной, как стол. И над уровнем моря там было плюс метр — два. А Кабул — почти две тысячи метров. Это горы, а у нас практики стрельбы в подобных условиях — ноль.
Дальше. С моей позиции вести эффективный огонь по Тадж-Беку было практически невозможно: я — в низине, он — надо мной. Выходило нечто среднее между воздушной целью и наземной. Но это — не золотая середина, к сожалению. Мне для правильного ведения огня следовало перенести позиции „Шилок“ километра на полтора назад от дворца, не меньше. Так я рассказываю вам, но накануне штурма, со схемами и карандашом в руке, все эти расчеты доводил до Холбаева и Колесника. Доказывал, что дорога и лестница, по которой должны были пробиваться наши, попадают в сектор обстрела „Шилок“. Задрать пушки вверх можно было, но тогда все снаряды уйдут поверх крыши. Смешно сказать: со своей позиции я мог, соблюдая безопасность для своих, обстреливать только третий этаж. Первый и второй — ну никак, и никаких гарантий.
В наш сектор обстрела попадала только третья часть здания. Я предлагал с началом атаки, а еще лучше, минут за десять-пятнадцать, выдвинуться на восточную сторону и, с ходу развернувшись, вести оттуда огонь. Просил, чтобы у меня была прямая связь с ротными Шариповым и Турсуновым. Это позволило бы мне точно подкорректировать стрельбу. Потом, не будем забывать, по наземным целям мы работаем в ручном режиме, без гидропривода, на что и времени затрачиваешь больше, и не так все просто для расчетов при внесении данных.
Послушали меня, долго с кем-то советовались. Как я услышал краем уха — в посольстве, отчего я на задницу так и присел. А проку от этих консультаций на самом высоком уровне — кот наплакал. Позицию не перенесли, только одну машину переместили на взгорок, но от такого маневра никакого толку. Дорога на серпантине попала под наше огневое воздействие, и мы таки вмолотили по своим машинам и экипажам. Две „Шилки“, которые я думал задействовать в бою с обратной стороны, перенацелили на афганские батальоны пехоты и танкистов, хотя, на мой взгляд, хватило бы и АГС — делов-то было: пугнуть солдат в казармах, не дать им возможности нос высунуть.