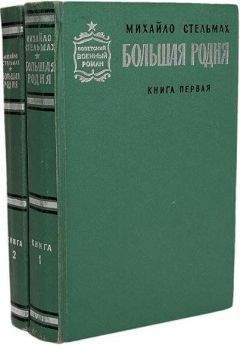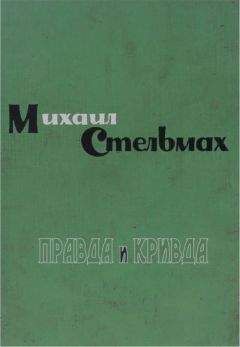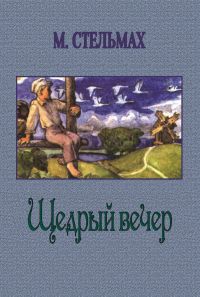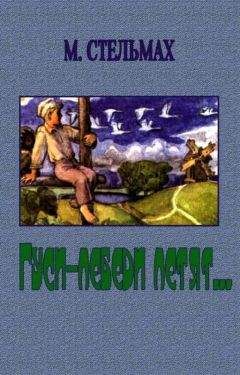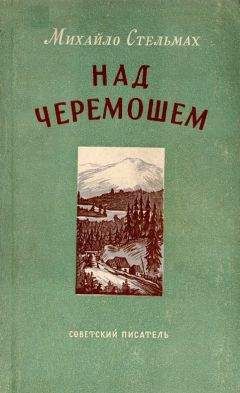— С Савченко?.. Тот, что на заводе работал?
— С Савченко. Рабочий, а слышит даже, как земля дышит… Только как сейчас этой Марийке на глаза навернуться? — Снова заиграли смешливые искорки в глазах. — Почему в гости никогда не зайдешь?
— За работой все времени нет. Жатва.
— Богатеть хочешь?
— Знаешь, как говорят: до сорока лет не разбогател, то и не разбогатеешь. А жить хочется не в бедности. Тянемся, из последнего тянемся, чтобы хоть какую-то лошаденку купить. Тогда легче на душе станет.
— Заходи, Евдокия Петровна, — прощается и тяжеловатой походкой идет посреди улицы домой.
«Упрямый, упрямый! Этого не скрутят кулаки. Каким был, таким и остался», — погружается в далекие годы, когда ее Тимофей дружил с Иваном.
— Добрый день, тетка, Евдокия! — весело поздоровался Григорий Шевчик.
Небольшой, крепко слаженный, догнал ее, улыбаясь приветливо, ясно. На темном лице играл румянец, на надбровье упали кудри, прикрыв высокий лоб.
— Доброго здоровья, Григорий. На танцы, небось, несешься?
— Конечно! — Григорий замедляет шаг, приноравливаясь к ее шагам. — Выгоняйте и Дмитрия на улицу.
— Разве же его просто так выгонишь? Как хозяйничается, Григорий?
— Да как — часом с квасом, порой с водой. На хату никак стянуться не могу. Пока прикупил дерево, обтесал, уже и лето отходит. Если денег нет, то с той хатой… Заработками не нахозяйничаешься, а набедствуешься.
— Жениться думаешь, что строиться начинаешь?
— Да… — замялся парень. — Еще и сам не знаю.
— В добрый час, Григорий. На свадьбу же позовешь? — призадумалась Евдокия.
— Как придется, посаженной матерью попрошу вас быть, — прощается Григорий.
Евдокия уже не слышит последних слов, погружается в свои думы.
Давно ли они с Марией, Грицковой матерью, невестились вместе? Даже почувствовала вздох девичьих лент на груди и плечах.
Жили они тогда на Выгнанце. Вместе начали гусей пасти, вместе, как настал срок, пошли в экономию Колчака. С раннего утра до самой ночи кланялись тяпке и густым рядкам свеклы, аж кровавые заусеницы болезненными венчиками нависали над ногтями. Вечером наспех вливали в себя жидкую кашу с протухшего, пропахшего мышами пшена и сразу же засыпали, коснувшись прошлогодней сбитой соломы.
Только и радости той — воскресенье одно. В субботу, как начнет темнеть, одна поперед другой спешат домой, рассыпают бусины смеха, песен. И сердце на какое-то время несправедливость забудет, забудет эконома, приказчика, так как даль такая синяя, такая зовущая, такая загадочная, как предвесення ночь. И кто его знает, что девушке готовит будущее. Может, не только сапоги и катанку[18] и простуду тяжкую, — может, само счастье встретится с нею… Много бедной девушке надо? Найти себе верного мужа, иметь свое поле, свой клочок огорода, не пухнуть от голода в канун нового урожая. А вот богачка — другое дело. У них одни кораллы за корову не купишь, сундук волами не вывезешь и приданого в каждой руке по несколько десятин, а у тебя приданого — корова, что на горе гребет полову, да тяпка в руке и мозоли на руке.
А вечер приникает к девичьей красе, стелется шелками и зовет к родной хате, такой сгорбленной, натруженной, как ее старые хозяева. Отец на завалинке сидит, пыхтит трубкой, венок седых волос падает на посеченное, шершавое, как кора, чело, седые брови поднимаются на лбу — ее увидел, — и все лицо тонет в облачке голубого дыма. Пыхтит трухой старый порог, потрескавшимся шампиньоном вросла их избушка в землю, почернела стреха, заплатанная зелеными латками мха. Но хоть и старая хата, а на ее гребне поднимается колос ржаной; в нем растет жизнь молодая; болеет, мучится в тесноте, сырости, злыднях, однако растет.
…Такая теперь хата и у Григория. Снесет ее — рассыплется трухой и сотрутся последние упоминания о чьей-то жизни. В новой хате поселится молодая хозяйка, и дорогой ребеночек закачается в плетеной колыбели, напиваясь теплым молоком и материнской песней.
«Только тебе, мой сынок, о жене не напоминай. На четыре года Григорий младше, а уже, смотри, осенью женится. Что же у тебя такое?..»
Когда вышла в кооперацию, увидела, как мелко, по-птичьему, подпрыгивал возле сельстроя большой круг молодежи, а потом закрутился вихрем, поднимая вверх тучку пыли.
«Лишь Дмитрия моего нет на танцах. Сидит где-то в хате».
Однако дверь была закрыта, и она пошла в сад. Под развесистой кислицей лежал Дмитрий, положив голову на левую руку, рядом лежала книжка, и ветерок перебирал ее страницы. Видно, задремал парень. Темно-русая шевелюра, осветленная на концах, затеняя лоб, накрывала широкую черную ладонь, разомкнулись освещенные розовые уста, и загорелое лицо было более спокойным. Во сне Дмитрий был ближе ей, не беспокоили тогда скрытые неуловимые черты, резкие, как иногда и взгляд черных глаз. Это упрямство проглянет сквозь покой настороженным блеском синеватых белков, задрожит чуть надрезанными посредине лепестками горбатого носа. Села мать на траву, засмотрелась на сына.
Тихо вокруг.
Дремлет сад, кланяется хозяйке, которая садила его, присматривала, и каждое дерево дорогое ей, так как вошло оно в ее душу частицей жизни. Горевала, как возле ребенка, когда ветер расколол эту густую ветку пепенки; подперла ее, замазала садовым клеем, перевязала рукавом своей рубашки, и заживилась рука яблони, обросла шершавой, поморщенной, как лапоть, корой, закачалась восковыми комочками яблок.
— Это вы, мама? — Спросонок Дмитрий разом ловит расширяющимся взглядом кусок неба, нависшего над плетнем, переплетающиеся ветки с голубым просветом и закрытое платками лицо матери.
— Пойдем обедать, Дмитрий.
Парень сильным движением всего тела привстает с земли, и, пригибаясь, идет между деревьями за матерью.
— Возле сельстроя девчата, парни — словно кто-то рой высыпал. Музыка играет, танцуют. Григорий о тебе спрашивал.
— Шевчик?
— Шевчик. Говорил, чтобы выгнала тебя на улицу. Придется послушаться его: скалкой тебя со двора выгнать. — Ставит еду на стол. — Пойдешь, может?
— Чего я там не видел? — Но не без удивления замечает, что скрытое желание незаметно охватило привлекательную площадку, где собиралась молодежь.
«Что это такое?» — спросил сам себя и не смог ответить, но ощущал — что-то беспокоило его, подталкивало одеться и выйти на улицу. Как и все, стать между парнями, слушать язвительные, шутливые слова, веселый смех…
— Пошел бы к товарищам, — уговаривает мать.
— И чего вам так захотелось? Неужели я музыки не слышал сроду? — А сам себя ловит, что слова матери нравятся, что в самом деле тянет его что-то из дому. «Там же и Григорий. Ни одного танца не пропустит. Ну да, с нею». — И он видит Марийку с белокурой круглолицей дочкой.
«Засмеется — и на щеках ямки закачаются».
И вместе с тем мерещилась Марта такой, какой видел ее когда-то в Сафроновом дворе: застывшая в просвете между полураскрытой калиткой и тесаным столбом, вся в красном, с русой косой на высокой груди. Только черты лица не мог уловить — расплывались, а вместо этого улыбалось лицо Югины.
И чтобы выбросить воспоминания из головы, начал думать о завтрашней работе. С утра надо поправить косу, вытесать нижний зуб для граблей и пойти косить ячмень. Пойдет рано утром, чтобы налитый росой не отбивался хрупкий колос, а там, на поле, уже ходит… Югина.
Встал из-за стола и подошел к сундуку.
— Какую тебе рубашку достать? — предупредительно отозвалась иметь.
Одевался долго, тщательно и, набросив пиджак, мало-помалу, еще сомневаясь (идти на танцы или в сад под лесом), пошагал широкой улицей. На площадке, то притихая, то гремя на все село, играла музыка, и грациозная полька, подпрыгивая, катилась над яблоневыми садами, над домами, задремавшими в распаренных вишняках.
— Дмитрий! Чур тебя! Здоров! — тычет короткие пальцы приземистый красный Варивон и хохочет. — А не врежешь гопака?
— Не хочу тебе хлеб перебивать.
— Здравствуйте, Дмитрий, — здоровается Григорий, вытирая платком пот с раскрасневшегося лица; он только что вышел из танца, горячий и радостный. Ласточкой порхнула от него Югина и, как в гнездо, легко влетела в девичий круг. Старшие девчата с извиняющимся видом покосились на нее: прыгает, мол, козленок, в ведь уже невеститься начала.
— Так я и говорю, ребята: богач, если бы мог, сам себя поедом ел бы, — закручивает папиросу черный носатый парень Емельян Синица. — А у меня на Стависко четвертина овса. Добрый овес уродил. Но как раз урочище на границе с любарцами, а им пальцы в рот не клади — так и норовят на чужом поле дурнышкою скот накормить. Вот отец и поспать не даст. Только заснешь, а он уже скрипит над ухом: «Емельян, беги на Стависко!» Бегу — ничего не попишешь, так как мой старик — разгневай — не пожалеет кнутовище на спине поломать.